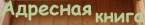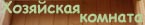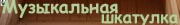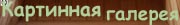«Вас не понимают рабочие и крестьяне»
Я еще не видал, чтобы кто-нибудь хвастался так:
«Какой я умный — арифметику не понимаю, французский не понимаю, грамматику не понимаю!»
Но веселый клич:
«Я не понимаю футуристов» — несется пятнадцать лет, затихает и снова гремит возбужденно и радостно.
На этом кличе люди строили себе карьеру, делали сборы, становились вождями целых течений.
Если бы всё так называемое левое искусство строилось с простым расчетом не быть никому понятным (заклинания, считалки и т. п.), — понять эту вещь и поставить ее на определенное историко-литературное место нетрудно.
Понял, что бьют на непонятность, пришпилил ярлык и забыл.
Простое: «Мы не понимаем!» — это не приговор.
Приговором было бы: «Мы поняли, что это страшная ерунда!» — и дальше нараспев и наизусть десятки звонких примеров.
Этого нет.
Идет демагогия и спекуляция на непонятности.
Способы этой демагогии, гримирующиеся под серьезность, многоразличны.
Смотрите некоторые.
«Искусство для немногих, книга для немногих нам не нужны!
Да или нет?»
И да и нет.
Если книга рассчитана на немногих, с тем чтобы быть исключительно предметом потребления этих немногих, и вне этого потребления функций не имеет, — она не нужна.
Пример — сонеты Абрама Эфроса, монография о Собинове и т. д.
Если книга адресована к немногим так, как адресуется энергия Волховстроя немногим передаточным подстанциям, с тем чтобы эти подстанции разносили переработанную энергию по электрическим лампочкам, — такая книга нужна.
Эти книги адресуются немногим, но не потребителям, а производителям.
Это семена и каркасы массового искусства.
Пример — стихи В. Хлебникова. Понятные вначале только семерым товарищам-футуристам, они десятилетие заряжали многочислие поэтов, а сейчас даже академия хочет угробить их изданием как образец классического стиха.
«Советское, пролетарское, настоящее искусство должно быть понятно широким массам. Да или нет?»
И да и нет.
Да, но с коррективом на время и на пропаганду. Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в результате суммы усилий: критического разбора для установки прочности и наличия пользы, организованное продвижение аппаратами партии и власти в случае обнаружения этой самой пользы, своевременность продвижения книги в массу, соответствие поставленного книгой вопроса со зрелостью этих вопросов в массе. Чем лучше книга, тем больше она опережает события.
Так, стих против войны, за который вас в 1914 году могли разорвать одураченные «патриотами» массы, в 1916 году гремел откровением. И наоборот.
Стих Брюсова:
Неужели вы близки,
К исполнению близки,
Мечты моей юности, —
И в древний Царьград,
Там, где дремлют гаремы,
Где грустят одалиски,
Войдут легионы европейских солдат...
вызывавший слезы прапорщического умиления, в семнадцатом году был издевательством.
Разве былая массовость «Отченаша» оправдывала его право на существование?
Массовость — это итог нашей борьбы, а не рубашка, в которой родятся счастливые книги какого-нибудь литературного гения.
Понятность книги надо уметь организовывать.
«Классики — Пушкин, Толстой — понятны массам.
Да или нет?»
И да и нет.
Пушкин был понятен целиком только своему классу, тому обществу, языком которого он говорил, тому обществу, понятиями и эмоциями которого он оперировал.
Это были пятьдесят — сто тысяч романтических воздыхателей, свободолюбивых гвардейцев, учителей гимназий, барышень из особняков, поэтов и критиков и т. д., то есть те, кто составлял читательскую массу того времени.
Понимала ли Пушкина крестьянская масса его времени, — неизвестно, по маленькой причине — неумению ее читать.
Мы ликвидируем это неумение, но даже у нас газетчики жалуются, что грамотный крестьянин еще не понимает фразы, в которой два отрицания, например: «Я не могу не сказать, что...»
Где же ему было понимать и где же и сейчас понять длиннейшие объиностраненные периоды «Евгения Онегина»:
Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита... и т. д.
Сейчас всем понятны только простейшие и скучнейшие сказки о Салтанах да о рыбаках и рыбках.
Все рабочие и крестьяне поймут всего Пушкина (дело нехитрое), и поймут его так же, как понимаем мы, лефовцы: прекраснейший, гениальнейший, величайший выразитель поэзией своего времени.
Поняв, бросят читать и отдадут истории литературы. И Пушкина будут изучать и знать только те, кто специально интересуется им в общем учебном плане.
Чтивом советских масс — классики не будут.
Будут нынешние и завтрашние поэты.
В анкете о Толстом («Огонек») Н. К. Крупская приводит слова комсомольца, вернувшего со скукой «Войну и мир»:
«Такие вещи можно читать, только развалясь на диване».
Первые читатели Пушкина говорили:
«Читать этого Пушкина нельзя, скулы болят».
Завтрашняя всепонятность Пушкина будет венцом столетнего долбления и зубрежки.
Слова о сегодняшней всехной понятности Пушкина — это полемический прием, направленный против нас, это, к сожалению, комплимент, ненужный ни Пушкину, ни нам. Это бессмысленные слова какой-то своеобразной пушкинской молитвы.
«Если вы понятны, где ваши тиражи?»
Вопрос, повторяемый всеми, кто количеством проданных экземпляров измеряет близость и нужность книги рабочему и крестьянину.
Не распространились? О чем говорить! Равняйтесь на «Новый мир» и на Зощенку.
Вопрос о распространении наших книг — это вопрос о покупательной способности тех групп, на которые книга рассчитана.
Наш чтец — это вузовская молодежь, это рабочая и крестьянская комсомолия, рабкор и начинающий писатель, по существу своей работы обязанный следить за многочисленными группировками нашей культуры.
Это наименее обеспеченный чтец.
Я получил недавно письмо от одного новочеркасского вузовца. Письмо со вложением, — конверт, сделанный из «Лефа» и полученный в придачу к соленым огурцам.
Вузовец писал:
«Я два года мечтал подписаться на «Леф» — он нам по цене недоступен. Наконец получил даром».
Вот почему нас не радуют тиражи двухрублевых томов. Нам подозрителен их покупатель.
Временный выход — покупка библиотеками.
Но здесь нужно организованное продвижение книги соответствующими органами, понявшими нужность этой книги.
Но вопрос о нас — еще дискуссионный. Нас не пущают полонские-воронские авторитетами двухрублевых тиражей.
«Но почему вас не читают в библиотеках?»
«Вас купят, если будет массовый спрос».
Так говорят библиотекари.
В Ленинграде в клубе на Путиловском заводе я читал мое «Хорошо». После чтения — разговор.
Одна из библиотекарш радостно кричала из рядов, подкрепляя свою ненависть к нашей литературе:
— Ага, ага! А вас никто не читает, никто не спрашивает! Вот вам, вот вам!
Ей отвечал меланхолический басок из другого ряда:
— Покупала бы — читали бы. Я спрашиваю библиотекаршу:
— А вы рекомендуете книгу читателю? Объясняете нужность ее прочтения, делаете первый толчок к читательской любви?
Библиотекарша отвечала с достоинством, но обидчиво:
— Нет, конечно. У меня свободно берут любую книгу.
Тот же бас опротестовывает учительшу:
— Врет она! Она Каверина читать советует.
Я думаю, что нам не нужны такие библиотекари, которые являются хладнокровными регистраторами входящих и исходящих книг.
Ни один рабочий не разберется сейчас в шести-семи тысячах зарегистрированных федерацией писателях.
Библиотекарь должен быть агитатором-пропагандистом коммунистической, революционной, нужной книги.
Библиотекаршу-агитатора я видел в Баку. Библиотекарша работала со второй ступенью. Учащиеся от чтения моих стихов резко отказывались. Библиотекарша сделала из разных стихов октябрьский литмонтаж и разучила его с чтецами чуть не насильно.
Вчитавшись, стали читать с удовольствием. После чтения стали отказываться от элементарных стихов.
«Чтение сложных вещей, — говорит библиотекарша, — не только доставило удовольствие, а повысило культурный уровень».
У нас хвастаются — литература расцвела садом.
Нужно, чтоб это дело не стало Садовой-Самотечной.
Нужно ввести в наши русла вкус — вести его по Садовой без затеков в Собачьи переулки. Меньше самотека.
Вкус приемщика (библиотекаря тоже) должен быть подчинен плану.
Ю. М. Стеклов часто морщился на приносимые мной в «Известия» стихи:
- Что-то они мне не нравятся. Думаю, что я отвечал правильно:
- Хорошо, что я пишу не для вас, а для рабочей молодежи, читающей «Известия».
Самый трудный стих, комментируемый двумя-тремя вводными фразами (что — к чему), становится интересен, понятен.
Мне часто приходится по роду своей разъездной чтецкой работы встречаться лицом к лицу с потребителем.
Картина платных публичных выступлений тоже показательна: пустые первые дорогие ряды — расхватанные входные стоячие и галерка.
Вспомним, что расхватывать билеты наших народных Гельцер, Собиновых и других начинают с первых — душку виднее.
Если кто и займет на моем чтении перворядный билет, то именно он кричит:
— Вас не понимают рабочие и крестьяне!
Я читал крестьянам в Ливадийском дворце. Я читал за последний месяц в бакинских доках, на бакинском заводе им. Шмидта, в клубе Шаумяна, в рабочем клубе Тифлиса, читал, взлезши на токарный станок, в обеденный перерыв, под затихающее верещание машины.
Приведу одну из многих завкомовских справок:
Дана сия от заводского комитета Закавказского металлического завода имени «Лейтенанта Шмидта» тов. Маяковскому Владимиру Владимировичу в том, что сего числа он выступил в цеху перед рабочей аудиторией со своими произведениями.
По окончании читки тов. Маяковский обратился к рабочим с просьбой высказать свои впечатления и степень усвояемости, для чего предложено было голосование, показавшее полное их понимание, так как «за» голосовали все, за исключением одного, который заявил, что, слушая самого автора, ему яснее становятся его произведения, чем когда он их читал сам.
Присутствовало — 800 человек.
Этот один — бухгалтер.
Можно обойтись и без справок, но ведь бюрократизм — тоже литература. Еще и распространеннее нашей.
[1928 ]
В начало страницы.
Вл.Маяковский об искусстве вообще и ЛЕФе в частности
Классик – обычная учебная книга
Революция переместила театр наших критических действий. Старая наша тактика определяется лозунгом 1912 г.:
«Сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности».
Классики национализировались. Они считались незыблемым абсолютным искусством и давили все новое. Для народа – классики обычная учебная книга.
Эти книги не хуже и не лучше других. Мы можем приветствовать их, как помогающее безграмотным учиться на них. Мы лишь должны в наших оценках устанавливать правильную историческую перспективу.
Бороться против методов мертвых
Но мы всеми силами будем бороться против перенесения методов работы мертвых в сегодняшнее искусство.
Мы будем бороться против спекуляции мнимой понятностью, близостью нам маститых, против преподнесения в книжках молоденьких и молодящихся пыльных классических истин.
Долой метафизику пророков и жрецов
Мы будем бить в оба бока тех, кто со злым умыслом идейной реставрации приписывает акстарью действенную роль в «сегодня», тех, кто проповедует внеклассовое, всечеловеческое искусство, тех, кто подменяет диалектику художественного труда метафизикой пророчества и жречества.
Мы будем бить в один эстетический бок тех, кто рассматривает труднейшую работу искусства только как свой отдых, тех, кто неизбежную диктатуру вкуса заменяет учредиловским лозунгом общей элементарной понятности, тех, кто оставляет лазейку искусства для идеологических излияний о вечности и душе.
Искусство и коммунизм
Наш лозунг: стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования, для того чтобы радостью растворить маленькое «мы» искусства в огромном «мы» коммунизма.
Мы боролись со старым бытом.
Мы будем бороться с остатками этого быта в «сегодня».
Раньше мы боролись с быками буржуазии. Мы эпатировали желтыми кофтами и размалеванными лицами.
Теперь мы боремся с жертвами этих быков в нашем советском строе.
Наше оружие – пример, агитация и пропаганда.
В начало страницы.