

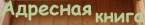

|
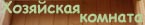
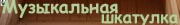 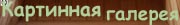
|
|
Автор - Сама родится новость в степи или прибежит из других стран — все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу. Случается, джигит задремлет, и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость. Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится. — Хабар бар? (Есть новости?) — Бар! (Есть!) Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды. И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ. Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда — неизвестно. «Так, — говорили, — скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать,— нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному Уху: «На пегатом коньке с лысинкой едет Черный Араб из Мекки и молчит». Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд. Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом — и прощай! — Хабар бар? — спросят дикие. — Бар! — ответит подкованный. И по-своему расскажет о Черном Арабе и пегатом коньке. Конь — по-своему. Я — по-своему. Содержатель соленого озера — есть и такая должность — пустил слух из своего домика: «Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка». Скоро под окном кто-то постучал и сказал: — Араб здесь? — Здесь араб! — ответил я и выглянул в окно. Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна — киргиз в широком халате и с нагайкой в руке. — Что нужно? Откуда узнал обо мне? — спросил я его. — От Длинного Уха, душа моя,— ответил этот киргиз и засмеялся. Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках. Мы долго чему-то смеялись. У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки — все в лучшем виде. — Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, — говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ. — Чистые, чистые,— повторял я за ним. — Ты, душа моя, верь мне, — просил он, — другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» — а я такой привычки не имею. Мы скоро поладили. Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам. — Что, как убьют? — спросил я. — За что убьют? — ответил Исак.— Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело! И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком — в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное Ухо насторожилось. — Хабар бар? — спрашивают одни. — Бар! — отвечают другие. — Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади. Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов. Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро — одно из тех обманчивых озер пустыни — блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями. И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда — все будто рукой сняло. Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками. — Ка! — кличет ее по-своему Исак. Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы? — Ка! — зову я собаку. Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи. Она садится на сухую землю и воет. — Ка! Ка! — кричим мы в последний раз и трогаем лошадей. Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна, и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину; впереди, как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями. Свет и тишина... Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное Ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина. Пусто! Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце? Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, — они тоже по-своему жили и выли, и не дешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами. К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу. — Алла, алла! — шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая. Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони. Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой. В синеве заколыхалась большая белая чалма. — Алла, алла! — быстрее замолился Исак. — Мулла едет? — спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку. — Узбек на верблюде, — отвечает Исак. И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне. Она потеряла Мальчика. — Не видали ли мы ее мальчика? — спрашивает женщина. — Мы никого не видали, — ответил Исак, — только вот пристала собака. Не ее ли эта собака? — Нет! — ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей. — Она спрашивает, — перевел Исак, — не видали ли мы араба на пегатом коне, — не он ли унес ее мальчика? Исак на это ответил: — Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца. Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила: — Куда едет араб, зачем? Исак объяснил ей: — Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего Албасты, желтоволосая бесплодная женщина. Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась. Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина. И вот я — степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой — повода. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду — киргиз, по слуху — араб, — еду и сею миражи. Опять на горизонте показываются всадники Длинного Уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку. — Берге (сюда), джигит! — кричат назади. Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак. — Хабар бар? — спрашивают они, когда мы съезжаемся. — Бар! — отвечает Исак. И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются. — Ио-о! — восклицает один. — Э! — отвечает другой. Только и слышно, что «о» да «э». Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу? Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели. Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое Сломанное Колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка. Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи. До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка Закопанный Колодец нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком. — О чем говорили? — спросил я. — Все о той же верблюдице, — ответил Исак. Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени. — Про что теперь говорили? — пытал я Исака. — Да все про ту же верблюдицу, — ответил он. Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка. Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся — признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру. Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе. — Алла, алла! — падает он на халат. Два последние всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей. — Алла, алла! Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные. Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры — намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко. Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда. Слепая тропинка. Какая-то незнакомая птичка насвистывает. «Что это за птичка такая? — думаю я. — Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички. Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей. Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца — черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая: — Чу! — Берге! — кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак. Старик и бык услыхали. — Чу! — крикнул старый на баранов. Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом — бык и старик. — Руки, ноги здоровы? — приветствую я по-киргизски старика. — Аманба, — отвечает он. — Скот здоров? — Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? — спрашивает меня старик по-своему. — Аманба. Аман,— отвечаю я. Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак. Глажу доброго быка между рогами и приговариваю: — Джаксы, джаксы! Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял. Глажу доброго старика и приговариваю: — Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик. И он, добрый, слезает. А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку. Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе. Я свищу на баранов. — Чу! — кричу на быка. — Берге, — зову старика. Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади -и так мы шествуем навстречу Исаку. Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет — кизяк — для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей. — Что он рассказывал? — спросил я потом Исака. — Все про того же араба,— ответил Исак,— про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу. Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась — нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов. Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка — волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал: — Йо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай! Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая: — Ох, уж эти бесплодные женщины!
Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя. В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити — такая она была большая и низкая. — Чолпан! — сказал Исак. — Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда. Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться — есть и третья, и четвертая. Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия. Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени. Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось. Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту. — Что я могу сказать об этой звезде? — указал Исак кусочком сахара на небо. — О какой? — спрашиваю я, — об этой? — и тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду. Исак мычит в знак согласия и кивает головой. Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная. — И по-нашему она неподвижная. — И у нас и у вас одинаково! — удивляюсь я. — Все это видно на небе с древних времен, - отвечает Исак, — и у нас и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный Кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного Кола? — спрашивает опять Исак. — Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю. — Это два коня, Белый и Серый, — объясняет мне Исак, — оба привязаны за Железный Кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, — указывает Исак на Большую Медведицу, — семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного Кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат. — А эта кучка звезд? — указываю я на Плеяды. — Эта кучка звезд — овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются? — Неужели и волк есть на небе? — Да вон же волк, душа моя! И показывает мне кусочком сахара волка на небе. — На небе, как на земле! — говорю я, удивленный. — Как в степи, — отвечает Исак, — вон и мать тоже ищет ребенка. — Может быть, есть и араб? — Э-э! — И Длинное Ухо? — Э-э! Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость. Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи: — Хабар бар? — Бар! Араб чай пьет под звездами. Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует. Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи. Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту. Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк! Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле. — Где лошади? — Тут. Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды — испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды. Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах — саптомы, сбоку — ружье, сверху — вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей — Пегатый. Чуть что — нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка. Вот и теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд. Карат подошел и чешется о тележку. — Чу, Карат! — кричит на него Исак. Лошадь переходит на мою сторону, к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного Кола. «Отчего тут звезды такие большие и низкие?» — думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне — оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться? — Чу, Кулат! Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами. Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит. Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней — и прощай Пегатый! Хочу встать — не могу. А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки. «Спит ли? — спит!» Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней. От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече. — Хабар бар? — спрашивают старые. — Бар! — отвечают молодые. — У края степи, возле самой пустыни спит Черный Араб, а пегатый конек с лысинкой здесь. — Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, — поправляют старые мудрые кони, — а здесь его имя пусть будет отныне и до века — гнедо-пегий конь с белой звездочкой.
Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной; ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело. — Это хребет земли, страна Арка, — сказал Исак. — Счастливая страна! Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино, — лучшая в мире страна для пастухов. Семь юрт у подножия горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец. — Примет ли нас Джанас? — спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской. — Примет... Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых жеребят. Старик прикладывает руку к сердцу. Руки здоровы. Ноги здоровы. Овцы здоровы, верблюды, кони — все здорово и у них, и у нас. Слава богу, аман! Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец, кланяясь, просит войти; девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец. В юрте пастухов — будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть. Наверху круг еще синего неба; внизу на земле три черных, обожженных камня с рогулькой — очаг. За очагом, против входной двери, обращенной к Каабе, устлано ковром место для гостя, а тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано. Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами; у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается: Каин был земледелец, Авель — пастух. В степи еще солнце: когда войлочная дверца открывается и кто-нибудь входит — слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги, у очага, войдет и сядет, и кажется, кто-то читает из большой древней книги: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова... Но приглядеться — они не все одинаковы: у одного, очень толстого, такая маленькая тюленья голова; у другого, тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики; у третьего, толстого, хвостики обкусаны; четвертый — поменьше всех и лицо медно-красное. Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют. Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, Черный Араб. Длинное Ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда — неизвестно. И вот наконец попался. — Куда едет араб? Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит. Другой подвинулся... Довольно миражей... — Я не араб! — Йо-о! — воскликнул толстый с тюленьей головой. — Йо! Алла! Он не араб! — заговорили другие. И все разинули рты. — Кто же он? Что ему нужно? — Ему ничего не нужно, — объясняет Исак, — это ученый, он не берет от степи ничего: ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого. — Йо, Худай, не дух ли это предков, аурах? — Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, богу не молится. — Шайтан! — шепчет толстый с крысиными хвостиками. — И не шайтан, — уверяет Исак, — шайтаны злые, это ученый из Петербурга, добрый... — У него не мягкий ли палец на правой руке? — спрашивает толстый с обкусанными крысиными хвостиками. У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот Хыдыр, святой. Смотрят на руку, трогают палец — палец у меня твердый. Гость — не араб, не аурах, не шайтан, не святой. Исак им объясняет и час и два; лица краснеют, глаза горят, но тайна Черного Араба по-прежнему не разгадана. Все щелкнули языками. — Джок! Нет, непонятно. Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят: — Джок! Нет, непонятно. Чуть колышется войлок юрты: кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку, и вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально — скроется, отвернуться — опять глядит. Нагляделся досыта, исчез; дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверно, уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся — и араб, как степной оборотень, превращается из мельчайшего, в булавочную головку, джинна — в ужасную Албасты. И кто знает? Быть может, тайна Черного Араба сейчас тут же, в кустах чиевника, готова остановить поцелуи влюбленных; быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли? Но все кончилось просто. Кто-то спросил: — Есть ли отец у гостя? Все обрадовались простому вопросу и подвинулись. — Есть отец. — А мать? — И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка, все равно как и у вас в степи. — Все ли живы? — Все живы, и все живут в Петербурге. — Йо! — радуется старик, похожий на Авраама. — Сколько же там в Петербурге домов? — Тысячи! — О! — вырвался из открытых ртов, общий радостный крик. — А есть ли в Петербурге бараны? — спросил Авраам. — Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так. — Как так? — Без курдюков, с козлиными хвостиками. Как искра, перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми, острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатами, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки — так хохочут в степи! Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось. Ему отвечают: — В Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками. Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный. Падают назад, на спины, хватаясь за животы: и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой толстый, и тот, что с тюленьей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исак. Приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты. Кто может, подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежде таинственного и страшного, Черного Араба. И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чиевника. Не смущаются мыслями бесплодные женщины в святых горах. Он не страшный, этот Черный Араб, и будто жил он тут всегда, тысячи и тысячи лет.
Верхами на маленьких лошадках, похожих на куланов, едем мы к пустынной горе Карадаг ловить охотничьих орлов, беркутов. У меня к седлу привязана орлиная сеть, у спутника моего Хали в руке приманка: кровавое дымящееся сердце только что убитого нами горного барана архара. В долине горы Карадаг мы ставим орлиную сеть так, чтобы падающий камнем за добычей орел мог свободно залетать в ее отверстие и остаться в сети, бессильно распустив крылья. Внутри этого сетяного шара мы оставляем кровавое сердце и сами прячемся в ближайшей пещере. До рассвета в темной пещере знаменитый охотник на беркутов Хали мне рассказывает про орлов, как они на охоте ловят зайцев, ломают спину лисицам и, если с малолетства приучать, даже и волка останавливают. До рассвета мы шепотом беседуем про орлов и, когда начинает светлеть и черная гора наверху зацветает, видим, как один орел делает круг над нашей долиной. Полет его такой спокойный, — кажется, это мальчики змей запустили и где-то держат невидимую нам нить. Он сделал круг над нашей долиной и скрылся на вершине горы: конечно, заметил добычу, но сразу взять не решился. Верно, он там посоветовался со своими или проверил хозяйство, обдумал, стоит ли рисковать. С тревогой, затаив дыхание, ждем мы в своей пещере орлиного решения и вот видим, орел вылетает, делает еще круг, на мгновение как бы останавливается в воздухе над ловушкой и вдруг камнем падает на кровавое сердце архара, и нам в пещере слышен шум падающего орла. Да, он упал. Мы спешим к ловушке, он упал и запутался, но пока повадки своей орлиной не бросает: клюв открытый, шипит, сердито нахохлился, запрокинул назад голову, и глаза мечут черный огонь. Но Хали не обращает на это никакого внимания, обертывает орла сеткой, как рыбу, подвешивает к седлу, и по блестящим искоркам осеннего мороза-утренника мы возвращаемся в аул с богатой добычей. Мы радость привозим в аул: не часто попадают в сетку орлы, и за хорошие деньги можно сбыть его богатому Мамырхану, любителю охоты с орлами. Только перед тем, как продавать, конечно, нужно приручить орла и приучить к охоте. И вот мы приручаем и приучаем его ловить зайцев, ломать спины лисицам и, может быть, если орел окажется очень хорош, на всем ходу останавливать волка. В нашей юрте от стены к стене мы протягиваем бечеву, посредине сажаем орла, привязываем его лапы к бечеве, надеваем на голову кожаную коронку и закрываем ею глаза. Слепой и привязанный орел сидит на бечеве, балансируя, как акробат, а веревочку нарочно всегда шевелят и дергают, чтобы ни на одну минуту орел не успокоился и не пришел в себя: он должен себя самого навсегда потерять и свое совершенно слить с волей своего хозяина. Орел должен сделаться таким же послушным, как собака — друг человека. Вокруг юрты, прислонившись спинами к подушкам, сидят, пьют кумыс киргизы-охотники, и среди них на самом почетном месте сидит и ест кувардак из жеребенка самый главный любитель охоты, владелец пяти тысяч голов лошадей, наш почетный гость Мамырхан, Он глаз не сводит с орла, и чуть только тот успокоится, делает знак, и киргиз дергает за веревочку. Наелись охотники баранины и жеребятины, напились кумысу, улеглись спать, но и тут нет покоя орлу: кому надо бывает по своей нужде выйти из юрты, проходя непременно дернет за бечеву, и орел на пол-юрты взмахнет крыльями; кому забота на душе и надо проверить, все ли целы бараны, не крадутся ли волки, — тот, проходя мимо орла, непременно потрясет веревку. И даже кто, с боку на бок переваливаясь, заметил в покое орла, хлещет по веревке нагайкой. Так проходит день, два; задерганный, слепой, голодный орел еле-еле сидит, нахохлился, распустил перья, вот-вот упадет и будет висеть на веревке, как дохлая курица. Тогда снимут с глаз его кожаную коронку и покажут — только покажут! — кусочек мяса. А потом опять ставят орла, и это мясо вываривают и дают немного поклевать этого белого вываренного бескровного мяса. Продержат, подергают еще дня два, показывают свежего, кровавого, теплого, дымящегося мяса и отпускают орла. Теперь, как пес, плетется орел за мясом по юрте. Мамырхан, довольный, улыбается, смеются охотники, маленькие дети подхлестывают орла прутиком, и даже собаки удивленно и нерешительно смотрят, не знают, что делать: по перьям — орел, хватать бы его, а ведет себя, как собака — друг человека. — Ка! — кричит киргиз. — Ка! Орел плетется себе. И над царем птиц все покатываются. Мамырхану очень понравилась птица. Он сам хочет испытать орла на охоте, садится на коня, показывает орлу кусочек мяса: - Ка! Орел садится к нему на перчатку. Мы едем охотиться туда, где много водится зайцев, — к пустынной горе Карадаг. Вот загонщики и выгнали зайца, кричат: — Куян! Заяц бежит по той самой долине, где мы поймали орла. Мамырхан снимает с глаз орла коронку, отвязывает цепь и пускает. Взлетает орел над долиной, с шумом, как камень, бросается, — вонзил в зайца когти, пригвоздил его к земле. Вот клевать бы, клевать и, что еще проще: взмахнуть крыльями и унести зайца на вершину горы Карадаг. И, может быть, он уже и подумывает об этом, алая горячая кровь бежит у него из-под лап, в глазах опять загорается черный огонь, крылья раскрыты... Мгновенье еще, и он улетел бы в горы к родным и был бы свободен, и, наученный, никогда бы больше не попадался в человеческую ловушку, но как раз в это мгновение Мамырхан крикнул: - Ка! И показал вынутый из-за голенища припасенный в ауле кусочек мяса. И этот полувысохший, пропитанный потом и дегтем кусочек имеет какую-то силу над могучим орлом: он забывает и горы свои, и семью свою, и свою богатую, еще теплую добычу, летит к седлу Мамырхана, позволяет надеть себе коронку на глаза, застегнуть цепь. Магический кусочек мяса Мамырхан опять прячет за голенище и спокойно берет себе зайца. Так приучают орлов.
Старый козел просунул к нам в юрту свою бородатую и рогатую голову. — Желает гость козла или барана? — спрашивает хозяин. — Барана желает гость, — отвечает Исак. — Молодого или старого? — Молодого желает гость. Старик просит прощения: летом было мало дождя, — молодые бараны сухи, но он попробует выбрать. И уходит. Ставят на три камня очага огромный черный железный казан, наливают в него ведрами воду, подкладывают в огонь шарики конского навоза. Готовятся к пиру. Черноногий молодой пастух на кровати запел о горбоносом баране, о госте, о какой-то долине с пятью тополями и о том, как они засыхали и как осталась долина с одним сухим тополем. Хозяин входит в юрту с бараном, просит гостей благословить. Исак обеими ладонями проводит по своей бороде, строит благочестивые, умные глаза, шепчет, — и баран благословлен. Мальчик на кровати все поет о горбоносом баране, болтая ногами, сочиняя без усилий стихи и позвякивая струнами домбры. Тот, что потоньше других и с медно-красным лицом, точит нож. Входит старая женщина и подкладывает в огонь навоз. Внизу, между камнями, огонь горит ярче, вверху видно вечернее предзакатное небо. Барана связали. Голову свесили в медный таз: кровь есть жизнь, ни одна капля не прольется на землю. Вылилась кровь в таз, будто отвернули кран самовара. Темнел и темнел наверху круг неба. Мальчик на кровати пел. Из незакрытой двери виднелся бородатый козел, освещенный нашим костром. Блеснули звезды. Толстый, с тюленьей головой человек вырезал из груди барана четырехугольник, прямо с шерстью, и хотел растянуть его на рогульке и обжарить на огне. Но пока он приготовлял рогульку, мясо, оттого что в нем сокращались мускулы, зашевелилось. Исак указал на это соседу, тот — своему соседу, и всю юрту обежало: «Мясо шевелится». Стали спорить, можно ли есть такое мясо? Вспомнили такой же случай с мясом зарезанного волком ягненка. Тогда мулла разрешил, значит, и теперь можно. Толстый растянул мясо на рогульке и, обжигая, сказал: — Теперь оно больше не будет прыгать. Медно-красный отрезал голову барана и передал женщине. Она проткнула ее длинным железным вертелом и, повертывая на огне, обжигала шерсть. Когда голова совсем почернела, на нее из кувшина лили воду, а женщина протирала кость в струе, и ее пальцы скрипели, и голова барана все белела и белела. Медно-красный разделил тушу и вынул внутренности. Собаки, почуяв мясо, просунули в юрту головы. Им вылили таз с кровью. Просунулись женские руки — отдали кишки. Еще какой-то руке отдали легкое. Наконец, красную тушу и белую голову опустили в черный котел. Кровь, огонь и вода соединились, пар и дым поднялись вверх, закрывая спокойные звезды. Когда баран поспел, перед ковром поставили низкий круглый стол и все к нему подвинулись. Достали голову и, отрезав ухо — лучшую часть, — предложили гостю съесть. Голову раздробили, мозг выбрали в особую чашку, накрошили туда лука, подлили из котла жижи, поочередно опустили руки в чашку, достали по горсточке, вкусно ели, тут же смазывая жирными руками уздечки, нагайки и седла. Закусив, принялись за барана. Целая гора мяса лежала на блюде; двое с крысиными усами резали мясо, отделяя куски от костей. Другие подхватывали мясо руками, окунали в соленую воду и ели, не чавкая, будто глотая целиком. Очень торопились. Зубы сверкали. Кости белели и белели. Гора таяла. Собаки опять просунули головы в юрту. А там, за юртой, из последних сил светил ущербленный девятый месяц лунного года. На степи были блестки мороза. Овцы, положив друг на друга головы, согреваясь от холода, плотной массой прижались к темным человеческим шатрам. Теперь где-нибудь в трещинах гор уже горели красные волчьи глаза, на сопках сверкали их серебряные спины. Но добрые пастухи охраняют своих овец, и девушка-невеста всю ночь, чтобы не заснуть, поет песню. Катятся вверху прозрачные зеленые лунные волны. Озаренные красным светом костра пастухи доедают барана. Мяса уже нет, они возятся с белыми костями, раздробляя их и вынимая мозг. Последние обрывки мяса, обрезки — все, что второпях падало на грязную скатерть, хозяин сгребает рукой и сует в ожидающие подачки руки совсем бедных людей. Ничего не пропадает: даже обглоданные и раздробленные кости, завязанные в ту же грязную скатерть, уносит женщина дососать и догрызть. Доев все дочиста, расходятся по своим юртам. Мы, гости, приготовляясь к ночлегу, затушили остатки костра между обгорелыми камнями. В отверстие сверху влилась струя лунного света, забелело несколько забытых в юрте костей и череп возле котла. Спать легли на том самом месте, где только что пировали. Исак дернул за веревку. Отверстие вверху закрылось, и наша юрта, похожая на воздушный шар, казалось, полетела куда-то над степью. Девушка-невеста пела, пела над спящими стадами и уснула, а волки выходили из горных трещин в долину, ползли, прятали за сопками сверкающую серебром шерсть, горящие глаза. Крались к самым кустам чиевника возле самых юрт, подбирались и прыгали. Всю долину будто рассекли длинным скрученным канатом — так крикнули в ауле. Но и сквозь лай, и гомон, и горловые крики был слышен тихий жалобный стон уносимого волками ягненка — и все дальше и дальше, тише и тише. Не сон — этот затихающий крик. Вот и Исак открыл дверцу юрты, смотрит в долину. Видно, как по верхушкам далеких сопок серебряной точкой мелькает волчья спина, а за нею, все отставая, мчатся черные точки собак. Весь аул на ногах. Медно-красный сидит с ружьем на коне. Ему показывают рукой на горы. Он кивает головой и обещает хозяину отомстить волкам. — Сколько утащили волки? — спрашиваю я Исака. — Трех, — отвечает он, засыпая, — трех молодых, и у старых оторвали шесть курдюков. Девушку долго и зло бранили женщины. Когда все улеглись, она опять запела над спящими стадами. Она поет, будто плещется при луне, переливаясь со скалы на скалу, горный ручей, а стада жуют и дышат, будто тысячи людей тихо идут по песку. Волки теперь уже не нападут. Но кто знает? Быть может, приедет в эту ночь новый гость, и опять пастухи утащат одну овцу и при красном свете костра растерзают. И она будет жертвой богам, охраняющим стадо. Спят спокойно стада, прижавшись к человеческим жилищам. Зеленые волны девятого месяца лунного года, прозрачные, не заслоняя звезд, катятся и катятся по небу под песнь девушки-невесты, стерегущей стадо. Так от века было в долине Пестрой Змеи. Утром, когда мы проснулись, медно-красный охотник уже сидел у костра и рассказывал, как он страшно отомстил волкам: шесть убил и одного живым поймал в горной пещере. Живого волка он связал, снял шкуру, развязал, пустил, и он побежал. — Ободранный? — изумился я. — Ободранный, — ответил спокойно медно-красный, — ободранные волки немного могут бежать. И рассказал всю свою ночную охоту. При месяце в горах он увидел семь свежих следов. Сошел с лошади и стал идти по следам. Возле горы, где ловят беркутов, он увидал волка: то покажется, то спрячется. Это был караульный волк, а другие шесть, сытые, спали. Охотник поднялся на гору с другой стороны и посмотрел вниз из-за камня. Спал большой волк, как мертвый. Выстрелил — волк вильнул хвостом и остался. Три пошли на эту сторону. Свистнул — остановились. Один сел и завыл, другой завыл, третий завыл, другие три волка отозвались, пришли к мертвому и тоже выли. И тут завыл охотник. Выл и стрелял, прячась за камнями, меняя места, выл и стрелял. Последний волк, слегка раненный, упал в горную щель. Тут-то и поймал его охотник, ободрал и пустил, и он, черный, при месяце бежал версты три. Так отомстил медно-красный волкам в долине Пестрой Змеи. — Йо-йо! — удивлялись другие. — Джаксы, мергень! — одобряли все. И хохотали, и так весело хохотали, представляя, как бежал при месяце этот ободранный волк. Исак дернул за веревку. Верхнее отверстие открылось, солнечный луч ворвался и осветил нашу юрту. Мы стали собираться к отъезду, а хозяева — разбирать юрты для перекочевки. Пока мы укладывались, юрты были разобраны. Мы ехали дальше, на летнее пастбище, они назад — к зимовкам. А на том месте, где они были, остались только черные, обожженные камни и белые черепа.
Аулы откочевали, колодцы пересохли, но мы все-таки ехали вперед, на летнее пастбище, к баю Кульдже, прозванному степным царем. Блеснуло пресное озеро. Показалась долина, полная гнедых коней. Начались аулы родственников Кульджи, его табунщиков и барантачей — степных воров — для устрашения недобрых людей. «Мудрейший» судья пастухов — бай Кульджи — мог всегда усмирить непокорного, угнав его табуны. Длинное Ухо давно уже разнесло весть о необычайном джигите на пегатом коне, едущем в гости к степному царю. Владелец восьми тысяч голов степных коней выслал навстречу чужестранному гостю и его спутникам шестнадцать молодых джигитов на лучших бегунцах всех мастей. Впереди ехали поэт, певец, музыкант и учитель, за ними — молодцы в лисьих и бараньих малахаях, на седлах, украшенных серебряной резьбой. Все они проводили нас к аулу Кульджи — ко многим юртам, белым, как чайки. Седовласый, старейший в ауле аксакал вышел нам навстречу, приложил руку к сердцу и поднял войлок, закрывающий вход в юрту степного царя. Тут просторно, как в зале. Драгоценные ковры и халаты сложены в кованые сундуки: все готово к перекочевке с летнего пастбища на зимнее стойбище. Кульджа доживал здесь последние дни, развлекаясь охотой с орлами и соколами. Теперь он сидел против двери на ковре и писал, пользуясь голенищем своего сапога, как столом. Бархатная, шитая золотом шапочка только чуть обрезывала круглый, широкий тыквенный лик «отца пастухов». Маленькие, затерявшиеся на желтом просторе, будто сонные, но все замечающие глазки и широкий халат, прикрывающий вместилище не одного ведра кумыса, — так отлила степь своего царя. За спиной Кульджи, неподвижная, как статуя китайской богини, сидела его старшая жена: байбича. По левую руку ее на блюде лежали два больших куска масла, по правую сидели три бронзовых мальчика — дети Кульджи, а впереди, на виду, стояла гордость старшей жены степного царя — швейная машина Зингера. Мы вошли и прижали руки к сердцу. Кульджа прижал свою руку к своему царскому сердцу и спросил о здоровье наших рук и ног. Мы отвечали тем же и, усаживаясь, спросили: — Слыхал ли отец пастухов о нас, едущих к нему вот уже месяц в степи? — Э! — кивнул Кульджа в знак согласия. — По Длинному Уху? — спросили мы. — Слово бежит в степи всегда по Длинному Уху, — ответил степной царь. — Великое дело — слово, но оно же и губит племя Адама. Вот оно сейчас принесло весть о хорошем госте; мы рады: хороший гость, с хорошими пожеланиями — и овца приносит двух ягнят. Но Длинное Ухо доносит весть и о плохом госте: после такого гостя последнюю овцу уносит волк. — Э! — согласились поэт, певец, музыкант и учитель. — Что привело гостей в нашу землю? — спросил Кульджа. — Привлекает посмотреть страну, — ответили мы, — где люди живут так, как жили все люди в глубине веков. — Углубления и ямы страны, — ответил царь пастухов, — существуют только для тех, кто еще мало видел и мало знает, а на деле все просто. Но в этом случае гость прав: это лучшая в мире страна Арка — значит, хребет земли. Гость не ошибся. Гостю есть что посмотреть. Степной царь сделал знак поэту. Он приподнял дверь, и мы вышли смотреть счастливую страну пастухов Арка. Вечерело. Стада собирались, — лучшее время в степи. Где-то, гоняя с сопки на сопку, ловят одичавшую лошадь. Верблюдицы шагают, оглядываясь на верблюжат. Козлы идут впереди, бараны — позади. Табуны сходятся со всех сторон. Вечером степь живет любовною жизнью: все собирается. — Это мои табуны, — указал хозяин в одну сторону, и в другую, и в третью, и в четвертую. Без канав, без оград во все стороны было хозяйство степного царя-родоначальника: в долине белели юрты дяди Кульджи, и брата, и другого брата. За сопкой жил сват, за горою еще сват и бесчисленные бедняки, работавшие на богатых. И теперь, когда солнце садилось, там тоже сходились стада. Вся живая степь встречалась. Навстречу стадам из юрт выходили женщины в белых платках и с ведрами в руках. — Эта юрта моей матери, — указал хозяин на большую белую юрту, — эта — старшей жены, эта — младшей, эта — жены, доставшейся мне от покойного брата. Все юрты стояли большим кругом и будто ожидали, когда все наполнится между ними животными. Одних ягнят и козлят отвязывали, других привязывали. Разлученные на день с матерями, малыши радостно встречались и тыкали в сосцы носами. Козлят и ягнят дойных матерей вязали на длинную веревку — овцевязь — голова к голове. Женщины отпускались в стада для доения. Мужчины, осторожно охватывая руками задние ноги кобылиц, тоже доили, как и женщины. Девочка боролась с козой, мальчуган мчался на двух баранах, на одной лошади ехали три маленьких бронзовых бога. И везде лилось молоко. И пахло острым овечьим сыром. И крик был от ягнят и козлят, заглушающий всякий говор. Степному царю было хорошо показать гостю свое богатство. Он и сам шагнул к стаду, посмотрел на женщин, доящих коз, посмотрел, как ловко, обманывая жеребятами, пастухи доили кобылиц и верблюдиц, и, когда достиг середины круга, наполненного животными, сам опустился в стадо и сел верхом на большого барана, чтобы выщипать на его лбу метку. В соседних аулах почуяли гостя и пир в честь его. Первые приехали два муллы в белых чалмах, сели на землю, поджав ноги, не сводя глаз с хозяина, сидящего верхом на баране, озаренного красными косыми лучами уходящего солнца. Приехал дядя Кульджи, бий (судья) — огромная туша, скосившаяся от жира на седле. С ним приехал его сын Ауспан с белым соколом на руке и с филином, горбоносый красивый юноша, сам похожий на кречета. Приехал на белом аргамаке и другой дядя Кульджи и с ним три провожатых на вороных аргамаках. Приехал Джанас из долины Пестрой Змеи, похожий на Авраама, с сыновьями, похожими на Каина и Авеля. С ним приехали толстобрюхий с тюленьей головой, и другой толстобрюхий с крысиными хвостиками, и третий толстобрюхий с обкусанными крысиными хвостиками. Слегка наклонившись к луке, в ряд по двое, по трое, по четверо, на вороных, на белых, чубарых, соловых, гнедых, мухортых, всяких мастей аргамаках съезжались со всех сторон степи всадники в широких халатах, стройные и высокие горцы и толстобрюхие жители долин. Из ближайших аулов пешком сходились старцы, усаживаясь кругом возле юрт Кульджи. А вдали уже резали для гостей лошадь, и дымились внутри юрт костры, и стучали, сбивая кумыс. Красавец Ауспан подарил Кульдже филина, пойманного им сейчас на охоте. Его драгоценными перьями красавицы аула украшают свои алые Шапочки, а самую птицу, ощипанную, не убивают, а пускают в степь. И бывает, скачет эта птица, голая, с большой головой, мчится жертва красоты в буран страшнее черного перекати-поля. Кульджа очень благодарил Ауспана за птицу и отправил ее в юрту младшей жены. Солнце село, показались первые звезды; хозяин, указав рукою на юрту старшей жены, сказал: — Время рот раскрывать! Белые чалмы мулл склонились у дверцы; за ними склонился зеленый малахай и большой лисий малахай судьи и всех гостей. Последними вошли поэт, певец, музыкант и учитель. Оба муллы заняли место против двери, обращенной к Каабе, и от них по правую руку кругом до спящего орла — все другие гости. Хозяин, жена и дети сидели по левую руку. Когда все разместились, громче застучали слуги, сбивающие в турсуках кумыс. На низкий стол поставили сахарницу и вокруг нее горкой насыпали хлебные шарики, барсаки, белые, красные пряники, царскую карамель и два больших куска масла. В огромный черный котел опустили разделанную красную тушу лошади. Еще виднелось вверху розовое небо, и потому никто из правоверных не смел взять на столе лакомства и коснуться губой чашки с кумысом: была великая ураза (пост), рамазан, во время которого мусульманин может есть только ночью. Своим гостям, иноверцам, хозяин, однако, кивнул головой на масло. Как есть его без ножа и вилки? Разве попробовать отмазать немного хлебным шариком? Не удалось: сухой шарик рассыпался. Кульджа улыбнулся, взял в руки кусок масла, обнажил белые зубы и сказал: — Грызите! Мало-помалу стемнело. Хозяин взял себе на колени огромную чашку с кумысом и, помешивая большой резной ложкой, стал разливать в малые чашки гостей. Раскрылись рты, и целебная жидкость полилась, творя под халатами тепло и счастье. — Что нового расскажут ученые гости пастухам о других виденных ими странах? — спросил судья. — Недавно мы видели, — ответили мы, — такую страну, где летом солнце не заходит и ночей не бывает. — Как же там постятся мусульмане? — сказал строго мулла. — Гость ошибается: нет такой страны. И многие засмеялись над гостем, рассказывающим пастухам небылицы. Хозяин вступился за гостя и сказал: — Есть такая страна! Мулла вскочил. Многие вскочили с мест, оставив кумыс. Поднялся спор и шум, и последнее слышанное и понятое нами слово было: «шерегат». Когда все стихло, учитель нам рассказал, о чем спорили магометане. Кульджа слышал о географии, верил в нее и, ссылаясь на светскую науку, говорил: «Есть на свете страна незаходящего солнца». Мулла говорил: «Нет такой страны, потому что в таком месте всегда светло и мусульмане не могут поститься». Кульджа все твердил: «География», — пока мулла не сослался на шерегат, который не может ошибиться. На это разгневанный степной царь крикнул: «Шерегат не прав!» Вот тогда-то все вскочили и долго кричали, пока другой, более мудрый мулла не помирил всех простыми словами: «Страна незаходящего солнца есть, но там нет мусульман». Это всех успокоило, и все снова протянули свои чаши за кумысом к степному царю. И полилось кислое, пьянящее молоко на разгоряченные сердца. И лилось бы в молчании долго-долго, если бы Ауспан не вскочил и не выбежал из юрты с ружьем в руке. Все услыхали топот и подумали: волк гонит испуганный табун. Но выстрела не последовало. Ауспан вернулся с новым гостем. Это прискакал вестник Длинного Уха. Он ехал шагом и задремал в седле. Смеркнулось, стало темно. Джигит очнулся: нет дороги, нет гор и аулов, и везде только звезды и волчьи глаза. Всадник поехал по звездам и прискакал к аулу Кульджи. — Аманба, аманба! — повторял заблудившийся, грея у костра руки. — Аман! — отвечали ему и спрашивали: — Есть ли новости, хабар бар? — Бар! — отвечал заблудившийся.— В долине Потерянный Топор украли просватанную девушку Нур-Джемеля. Жених потребовал возвращения калыма. Хозяин отказал. Жених сам угнал лошадей у отца невесты и теперь на берегу ручья сидит и ест одну из отбитых лошадей. — Кто украл невесту? — Не знаю, — ответил гость, — степь велика! — Степь велика, — повторил степной царь и спросил: — Нет ли еще чего нового? — Видел белую галку, — ответил гость. — Белую? Мулла, есть ли белые галки? — Есть, — ответил мулла. — Йо! — удивились все. Еще видел вестник Длинного Уха, как перед зарею проскакала желтоволосая и желтоглазая Албасты. — Это бывает! — сказали пьющие кумыс. — Еще видел, как после заката впереди уходил козел, неся в зубах легкое. — И это бывает! — сказали люди в халатах. — Еще видел при наступлении ночи черного зайца. — Черного! Мулла, есть ли черные зайцы? — Йо-о! — удивился мулла и щелкнул языком, ничего не сказав. — Еще слышно, будто люди стали летать, как птицы. — Йо-о! — Еще слышно, будто люди пришли на то место земли, над которым стоит неподвижная звезда Темир-Казык, и что там вечная тьма. — Мулла, есть ли такая страна? — Есть, — ответил мулла. — Что же еще есть нового в степи? — допрашивали люди, пьющие кумыс. — Еще что? — повторил гость. — Еще вот уже два месяца от всадника к всаднику, от аула к аулу бежит слух, будто едет по степи Черный Араб и обертывается то святым, то чертом, не берет от степи ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого. — Он здесь! — сказали пьющие кумыс гостю, и тот в ужасе раскрыл рот. «Нет, — подумали мы, — здесь уже нет Черного Араба. Здесь у костра сидит обыкновенный киргиз в широком халате и зеленом малахае, его теперь все знают, он — как все. А тот все едет до настоящей пустыни, до низких звезд, где только дикие кони перебегают от оазиса к оазису. Теперь тот настоящий араб, а не этот». На всю ночь запировал степной царь в юрте старшей жены. Восемь тысяч вечно жующих отделяют эту юрту от юрты молодой жены. Светит последняя четверть девятого месяца лунного года. Завтра снимутся эти последние юрты с летнего пастбища. Снег занесет степь, ничего не останется. Молодая жена, дочь благородного хаджи, садится перед своим костром и красит по-девичьи свои ногти в красный цвет и расплетает свои волосы на двенадцать кос, будто девушка. Берёт свою алую шапочку, выдергивает драгоценные перья из живого филина, подаренного ей возлюбленным, по-девичьи, будто весной, украшает шапочку перьями мудрой птицы, и падают двенадцатью черными змейками косы из-под перьев на смуглую шею. Спят все восемь тысяч голов. Даже сторожевой козел Серке подгибает колени. Молодая овечка встала, почесалась ножкой и опять легла. Придерживая рукой звонкие монеты, крадется жена, одетая девушкой, к кустам чиевника и шепчет: — Это ты, мой медный кувшинчик? — Это я, моя тонкогубая деревянная чашечка, — отвечает кувшинчик. — Это я — здоров ли язык? — Язык здоров, на сердце боль. — Болит твое сердечко, скушай яблочко с базара. Рассыпались черные змейки по желтому лицу. Желтый месяц. Желтое яблочко. Желтые щеки возлюбленного. — Желтым, желтым, очень желтым видела я тебя во сне. — И тебя я видел желтой, но твои волосы чернее чернил муллы. — И твои, дорогой! — Твои очи темней обожженного пня. — И твои. — Твои щеки алее крови зарезанного барана. Твои груди — как свежее масло. Твои брови — как серп новолунья. — Клянись, — просит она, — обернись к луне, загни ноготь своего большого пальца. Он повертывается к луне. ...А утром чубарый козленок пробрался в юрту гостей, лизнул их лица и разбудил. Степной царь уже отдал приказ к перекочевке. Верблюды лежали перед юртами. Женщины снимали войлоки, обвивая ими горбы. Мужчины выдергивали деревянные кривые палки и тоже привязывали к горбам. Так, одна за одною, как сон, исчезали белые юрты: самого степного царя, его матери, его старшей жены и все другие. Когда разбирали юрту молодой жены, выскочил голый, совершенно ощипанный филин с огромной головой и поскакал в степь. Караван двинулся тоже в ту сторону. Скачет ощипанный филин. Катится черное перекати-поле. Полк за полком уводят старые журавли молодых в теплые края. Верблюды все шагают и шагают, попадая широкой мозолистой ступнею в старый след на кочевой дороге. Проходят караваны, встречаются и разъезжаются степные всадники. Ищут колодец с живой водой. Спрашивают, где обетованная страна? Одна в одну, как в зеркале, глядят голые сопки. И затерялся караван на этой желтой земле. Выбились из сил и остановились верблюды. Повертывают во все стороны свои птичьи шеи. Узнают и не могут узнать. Вспоминают и не могут вспомнить. И немного осталось им времени думать: вот уже падает снег. Бессильные, подгибают они колени и ложатся возле пересохшего колодца, протянув к камням длинные шеи и свесив пустые горбы. Ревекка не выходит с кувшином из белых шатров напоить их: не та земля, не тут страна Ханаанская. А в настоящей пустыне, где земля без людей и трава лежит серо-красная, от оазиса к оазису несут дикие кони весть о Черном Арабе. За этой пустыней текут семь медовых рек; там не бывает зимы; там будет вечно жить Черный Араб. |
©2003