

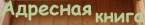

|
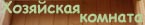
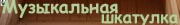 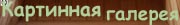
|
|
Автор - Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Собрание текстов, вступительная статья и общая редакция проф. А.С.Дмитриева. Комментарии - Е.П.Гречана. Издательство Московского университета, 1980. [...] Первая часть, которую я теперь публикую, основана на изучении моего собственного сердца[1] и собранных наблюдениях над характерами людей всех времен. При рассмотрении различных государственных устройств надо иметь в виду, что цель их — счастье народа, а средство к достижению этой цели — свобода; в области же морали главным объектом изучения должен стать вопрос о духовной независимости человека, счастье, какое бы то ни было, — следствие ее. Человек, посвятивший себя погоне за полным счастьем, будет несчастнейшим из людей; народ, стремящийся лишь к достижению несуществующего предела абстрактной свободы, будет самым жалким из народов. Таким образом, законодатели должны сообразовываться с обстоятельствами, управлять ими, а отдельные личности — стремиться к независимости от них; правительства должны заботиться о реальном счастье всех, а моралисты — учить людей обходиться без счастья. Для масс существует благо в самом порядке вещей, однако для отдельных личностей в этом нет счастья; все способствует сохранению рода, все препятствует желаниям каждого; государственные устройства, представляющие собой в некоторых отношениях целостный организм, могут достичь совершенства, пример которого являет мировой порядок, но моралисты, говорящие о каждом человеке в отдельности, о всех этих существах, вовлеченных в движение вселенной, не могут определенно гарантировать им личное счастье, которое бы не зависело только от них самих. Когда целью работы над собой ставят достижение полной независимости духа, в этом есть польза; даже неудачные опыты все же оставляют некий благотворный след; работая одновременно над всем своим духовным миром, не боишься, как в случае с целыми народами, разъединить, разобщить, противопоставить различные части политического организма. В пределах своего внутреннего мира нет нужды идти на компромисс с внешними препятствиями; человек рассчитывает свои силы и либо преодолевает эти препятствия, либо смиряется с ними; все просто, больше того — все возможно; ведь если абсурдно считать, что весь народ состоит из философов, то правда, что каждый человек в отдельности может тешить себя надеждой стать одним из них. Я ожидаю, что система взглядов, развернутая в этой первой части, вызовет различные нарекания, сделанные с позиций чувства или разума. Верно, нет ничего более чуждого первым порывам юности, чем идея стать независимым от привязанностей, нечувствительным к симпатиям других людей; поначалу хочешь посвятить свою жизнь тому, чтобы снискать любовь друзей, внимание общества. Кажется, что никогда полностью не отдаешь себя тем, кого любишь, никогда окончательно не доказываешь, что не можешь существовать без них; что повседневные занятия, служба не утоляют жара души, потребности в самоотдаче, в том, чтобы полностью раскрыть себя другим. Будущее рисуется целиком состоящим из сложившихся связей, тем более полагаешься на их длительность, чем менее способен сам на неблагодарность, зная, что имеешь право на признательность, веришь в дружбу на этой основе больше, чем в какие-либо иные узы на земле, все — средство, лишь дружба — цель. Стремишься также заслужить уважение общества, но друзья кажутся нам порукой этого уважения, все сделанное - сделано для них, они это знают, они это засвидетельствуют. Разве правда, причем правда чувств, не убедит? Разве не будет она, наконец, признана? Бесчисленные ее свидетельства должны же помочь ей взять верх над сфабрикованной клеветой. Ваши слова, ваш голос, ваши интонации, атмосфера, окружающая вас, — все, кажется вам, несет отпечаток вашей подлинной сущности, и вы не верите, что можно долгое время судить о вас превратно; именно с чувством доверия плывут по жизни на всех парусах; все, что [вам] известно, что вам говорили о порочности большого числа людей, вошло в ваше сознание как история прошлого, как те моральные истины, которые усваивают, не выстрадав. И в голову не приходит, что какая-нибудь из них приложима к вашей собственной ситуации. Все, что произойдет с вами, что вас окружает, — все должно быть исключением. Рассудок вовсе не влияет на поведение; когда есть сердце, слушаешь лишь его веления. То, что не прочувствовано самостоятельно, постигается рассудком, но никогда не направляет поступки. Но в двадцать пять лет, именно в ту пору, когда жизнь начинает идти на убыль, в вашем существовании происходит резкий поворот. Начинают судить о том, чего вы достигли, больше не возлагают надежд на будущее; участь ваша во многих отношениях решена, и вот люди размышляют, следует ли им связывать свою жизнь с вашей. Если они видят в этом меньше выгод, чем предполагали [ранее], если в какой-то степени ожидания их обмануты, то в тот момент, когда они решились отдалиться от вас, им хочется снять с себя вину перед вами. Они находят у вас множество грехов, чтобы оправдать себя в самом тяжком из всех. Друзья, которые отдают себе отчет в своей неблагодарности, перекладывают вину на вас, чтобы оправдаться. Они отвергают преданность, подозревают корысть, наконец, прибегают к отдельным двусмысленным действиям, чтобы придать своему и вашему поведению оттенок неопределенности, который каждый может истолковать по-своему. Каким мучениям подвергается тогда душа того, кто хотел жить в других и видит, что обманут в этой надежде! Потеря самых дорогих привязанностей не мешает чувствовать боль, когда лишаешься и наименее любимого друга. Вся ваша жизненная философия расшатана, она колеблется с каждым ударом; "и этот меня оставляет» — вот мучительная мысль, которая придает последним дружеским связям ценность, которой они не имени прежде. Общество, благосклонность которого вы испытали, тоже теряет всю свою снисходительность, оно приветствует те успехи, которые само предсказывает, и враждебно относится к ним, если является их причиной. Оно отрицает свои прежние высказывании, вместо поддержки оказывает противодействие. Эта несправедливость общественного мнения тоже заставляет вас испытывать день и ночь разнообразные муки. Незнакомец, не проголосовавший за вас, не заслуживает того, чтобы вы сожалели о потере его голоса; но вы страдаете от всех деталей той ужасной муки, картина которой разворачивается у вас на глазах. Будучи уверены в неизбежности мучительного конца, вы все равно испытываете боль от каждого шага. Наконец, сердце черствеет, жизнь теряет свои краски. В свою очередь, вы находите у себя недостатки, которые отвращают вас от себя так же, как от других, и которые заставляют отчаяться в идее совершенства, а вы ей поначалу гордились. Теперь вы больше не знаете, в какой идее найти опору, по какой дороге идти впредь. После беспредельного доверия вы становитесь готовы к несправедливым подозрениям. Разве чувствительность, разве добродетель — не призраки? Этот стон возвышенной души, вырвавшийся у Брута при Филиппах[2], — должен ли внести в жизнь pазлад или заставить покончить с ней? Именно в этот мрачный период, когда земля, кажется, ускользает у нас из-под ног, еще более разуверясь в будущем, чем в грезах детства, мы сомневаемся во всем, казалось бы, известном нам и начинаем жить с меньшей надеждой. Именно в этот период, когда время наслаждений промчалось и треть жизни едва пройдена, эта книга может быть полезной. Не надо читать ее раньше, так как сама я задумала ее и начала лишь в эту пору. Быть может, мне также возразят, что, желая укротить страсти, я стараюсь осушить источник самых прекрасных человеческих поступков, великих открытий, благородных чувств. Хотя я и не разделяю полностью этого мнения, я признаю, что в страсти есть нечто великое, что она возвышает человека; он исполняет почти все, что задумывает,— настолько твердая и последовательная воля — это действенная сила в нравственном отношении! Человек, увлекаемый чем-либо, что сильнее его, живет на износ, но и больше получает от жизни. Если признать, что душа всего лишь побудительная сила, то эта сила очень велика, когда она направляется страстью. Если бесстрастным натурам необходимо развлечь себя зрелищем грандиозного спектакля, если они хотят, чтобы гладиаторы уничтожали друг друга у них на глазах, в то время как они будут оставаться лишь свидетелями ужасных битв, несомненно, надо всеми способами разжигать страсти тех несчастных, чьи бурные чувства оживляют или сокрушают подмостки мира. Но в чем будет состоять благо этих существ? Какого всеобщего счастья можно достичь, потакая душевным страстям? Всякое движение, необходимое общественной жизни, всякий необходимый порыв добродетели возможны без этой разрушительной силы. Но, скажут, усилия надо посвятить тому, чтобы управлять страстями, а не подавлять их. Не понимаю, как можно управлять чем-то, не имея власти; для человека возможны лишь два состояния: или он уверен в том, что сам себе хозяин, и тогда он бесстрастен, или он чувствует, что над ним властвует сила, которая выше него, и тогда он полностью зависит от нее. Все эти компромиссы со страстью — чистый вымысел; страсть, как настоящий тиран, или на троне, или в цепях. Тем не менее я вовсе не помышляла посвятить эту книгу развенчанию всех страстей. Но я попыталась предложить жизненную систему, утешительную в какой-то мере в том возрасте, когда рассеиваются мечты о реальном счастье в этой жизни. Система эта подходит лишь натурам, действительно подвластным страстям, которые боролись за то, чтобы стать себе хозяевами. Многие ее радости могут испытать лишь пылкие в прошлом натуры, а необходимость ее жертв могут ощутить лишь те, кто был несчастен. В самом деле, если бы не рождались люди сильных страстей, то чего бы стоило бояться, к каким усилиям надо было бы прибегать, что происходящее в нашей душе могло бы заинтересовать моралиста и заставить его встревожиться за судьбу человека? Можно ли упрекать меня и в том, что я не говорю отдельно о радостях, связанных с исполнением долга, и о горечи от угрызений совести, следующих за ошибкой, или о преступном пренебрежении к такого рода мукам? Эти два главнейших момента бытия одинаково касаются любого жизненного положения, любого человека, я же хотела только показать связь разного рода увлечений с приятными или мучительными переживаниями, которые возникают в глубине сердца. Следуя этому плану, я думаю, что доказала также невозможность счастья без добродетели; прийти к этому выводу различными путями — вновь доказать его верность. При анализе разных духовных склонностей человека иногда будут встречаться аллюзии, связанные с Французской революцией; в нашей памяти свежо это грандиозное событие. К тому же я хотела, чтобы эта первая часть могла послужить второй части, чтобы изучение людей в отдельности могло подготовить к рассмотрению последствий их объединения в общество. Я надеялась, повторяю, что, трудясь над духовной независимостью человека легче достичь его политической свободы, ибо всякое ограничение этой свободы всегда требуется в силу разгула тех или иных страстей. Наконец, как бы ни судили о моем намерении, правда то, что единственной моей целью была борьба со злом во всех его формах, изучение тех мыслей, чувств, установлений, которые причиняют людям страдание, поиск тех соображений, тех душевных движений, тех средств, которые могли бы как-то уменьшить силу духовных мук. Картина несчастья, какова бы она ни была, и преследует меня, и угнетает. Увы! Я столько раз испытала, что значит страдать, — и невыразимое умиление, мучительное беспокойство охватывают меня при мысли о несчастьях всех и каждого: о неизбежных огорчениях и муках, которые причиняет воображение, о невзгодах праведника и также о раскаянии грешника, о сердечных ранах, самых болезненных из всех, об угрызениях совести, от которых краснеют, продолжая испытывать их в равной мере, при мысли, наконец, о всем том, что заставляет проливать слезы, те слезы, которые древние собирали в священный сосуд, настолько страдание человека было для них величественно. Ах, недостаточно поклясться, что за всю свою жизнь, жертвой какой бы несправедливости или неправды вы ни стали, вы никогда умышленно не причините никому горя, никогда сознательно не откажетесь от возможности облегчить его; надо еще попытаться, нельзя ли благодаря некоей тени таланта, некоей способности к размышлению найти язык, меланхолия которого нежно баюкает сердце, обнаружить, на какой высоте мысли больше не достигает ранящее оружие. Наконец, если бы время и опыт учили, как сделать политические установления достаточно очевидными, чтобы они не были больше объектом двух вер и, следовательно, причиной самых кровавых ужасов, то, кажется, мы могли бы, по крайней мере, получить законченную картину того, что повергает человеческие судьбы во власть зла.
Из всех глав этой книги нет ни одной, которая могла бы, по моим ожиданиям, вызвать больше критических замечаний, чем эта глава; другие страсти, имеющие определенную цель, поражают примерно одинаково все те души, которые их переживают. Слово «любовь» рождает в сознании тех, кто его слышит, столько же различных мыслей, сколь различна впечатлительность этих людей. Большому числу их не знакомы ни любовь к славе, ни честолюбие, ни приверженность к определенной партии. Любовь — так думают — была у всех, и почти все заблуждаются, думая так; остальные страсти гораздо более естественны и, следовательно, менее редки, чем эта, ибо любовь — та страсть, где меньше всего эгоизма. Эта глава, скажут мне, окрашена в слишком мрачные тона, мысль о смерти в ней почти неотделима от картины любви, а ведь любовь делает жизнь прекрасней, любовь — это то, что есть привлекательного в природе. Неправда, любви совсем нет в веселых книгах, любви нет в изящных пасторалях. Конечно, и женщины должны согласиться с этим, довольно приятно нравиться и держать всех, кто вас окружает, в своей власти, во власти, которую лишь сознательно превозносят, которой подчиняются из любви, — так что, распоряжаясь другими, даже вопреки их желанию, вы можете не опасаться расчетливости там, где есть лишь самозабвение. Но что общего между кокетливой игрой и чувством любви? Случается также, что и мужчины оказываются сильно захвачены, скорее, сильно увлечены обаянием красоты, надеждой или уверенностью этой красотой обладать; но что общего между такого рода ощущениями и чувством любви? В этой книге меня интересовали только страсти; обычные переживания, которые не могут вызвать никакого глубокого страдания, не относились к моей теме. А любовь, когда она страсть, всегда ведет к меланхолии: есть что-то смутное в любовных переживаниях, что никак не сочетается с веселостью. В душе живет глубокое убеждение, что за любовью следует небытие, ничто не сможет заменить пережитого, и это убеждение заставляет думать о смерти даже в самые счастливые минуты любви. Я рассматривала любовь лишь в ее связи с чувствительностью, ибо только чувствительность делает из этой склонности страсть. Не первый том «Новой Элоизы», а отъезд Сен-Прё, письмо из Мейери, смерть Юлии[3] — вот что характеризует страсть в этом романе. Так редко можно встретить сердце, в котором бы жила любовь, что я осмелюсь сказать: у древних не было полного представления об этом чувстве. Федра находится во власти рока, Анакреонта вдохновляет чувственность, у Тибулла[4] сладострастные описания даны отчасти в форме мадригала. Некоторые речи Дидоны, история Кеика и Альционы у Овидия[5], несмотря на мифологию, которая ослабляет интерес, уводя от жизненных ситуаций, — вот единственные отрывки, где чувство передано со всей его силой, так как свободно от всяких других влияний. Итальянцы так поэтизируют любовь, что все их чувства предстают перед нами в виде образов, которые воспринимаются скорее глазами, чем сердцем. Расин[6], живописующий любовь в своих трагедиях, великих во всех остальных отношениях, часто передает движения души в вычурных выражениях, в которых можно упрекнуть лишь его век: этого недостатка совсем нет в трагедии «Федра», но красоты [сюжета], заимствованные у древних, и красоты поэтического стиля, возбуждая самый живой восторг, не вызывают той глубокой растроганности, которая возникает при виде совершенного сходства описания с теми чувствами, которые сам можешь испытать. Восторгаешься осмыслением характера Федры, но больше чувствуешь себя в положении Аменаиды[7]. «Танкред», следовательно, должен вызвать больше слез. Вольтер в своих трагедиях, Руссо в «Новой Элоизе», «Вертер», несколько сцен из немецких драм, некоторые английские поэты[8], отрывки из Оссиана и т. д. передают глубокую чувствительность, свойственную любви. Есть изображения любви материнской, любви сыновней, чувствительной дружбы (Орест и Пилад, Ниобея[9], почитание родителей у римлян). Все остальные сердечные привязанности представлены нам во всей подлинности чувств, одна любовь показана нам либо в наиболее грубой форме, либо настолько неотделимой от сладострастия или неистовства, что это скорее искусственное изображение, чем подлинное чувство, скорее болезнь, чем страсть души. Именно об этой подлинной страсти я и хотела говорить, я отвергла всякое иное восприятие любви. Для предыдущих глав я собрала воедино все замеченное мной в истории или окружающей жизни, при написании же этой главы я опиралась лишь на свои личные впечатления. Это была скорее мечта, чем уверенность: те, кто похожи, поймут друг друга. Раз Всемогущему Богу, бросившему человека на эту землю, было угодно, чтобы у того возникло представление о небесной жизни, Он дал ему возможность несколько мгновений в юности страстно любить, возможность жить в другом человеке, дополняя себя в союзе с любимым существом. На некоторое время, по крайней мере, границы человеческой жизни, логика, философские рассуждения — все исчезло в тумане сладостного чувства. Жизнь, которая тяготит, стала увлекательной, и цель, которая, кажется, всегда превосходит наши силы, приблизилась без труда. Мы всегда знаем меру того, что касается нас самих, но достоинства, очарование, радости, интересы того, кого мы любим, имеют пределы только в нашем воображении. Ах, сколь благословен тот день, когда мы рискуем жизнью ради нашего единственного друга и избранника! [...] Одна женщина в те страшные времена, свидетелями которых мы были, женщина, приговоренная к смерти вместе с тем, кого она любила, мужественно шла на казнь, она радовалась, что избежала пытки пережить возлюбленного, была горда тем, что разделяет его участь, и, предвидя, быть может, конец его любви к ней, испытывала жестокое и сладостное чувство, заставлявшее ее приветствовать смерть как вечный союз. Слава, честолюбие, фанатизм, ваш энтузиазм имеют перерывы, только любовью мы упиваемся каждое мгновение; ничто не ослабляет ее, ничто не надоедает в этом неистощимом источнике радостных мыслей и переживаний; и пока мы знаем, что все наши чувства связаны с возлюбленным, мир полностью представляется нам различными формами его существования: весна, природа, небо — это то, что он видел; светские удовольствия — то, что он сказал о них, что ему понравилось, развлечения, в которых он участвовал, его собственные успехи,— это адресованные ему хвалы и тот отпечаток, который всеобщее одобрение может наложить на единичное мнение. Наконец, единственная мысль — о том, что доставляет человеку наибольшую радость, а что погружает в бездну отчаяния. Ни от чего так не устаешь в жизни, как от тех различных стремлений, совокупность которых считается верным основанием полного счастья; что касается несчастья, то его размеры не зависят от того, насколько мы эти стремления разграничиваем; лишь разум избавляет от всех страстей: наименьшее из зол — это полностью предаться какой-нибудь одной страсти. Несомненно, что так мы рискуем убить все наши чувства; но ведь при осмыслении человеческой жизни на первый план следует выдвигать не заботу о ее сохранении, печать бессмертной сущности человека в том, что плотская жизнь ценится им лишь при наличии духовного счастья. Именно с точки зрения рассудка, отстранив энтузиазм молодости, взгляну я на любовь, или, точнее, на полное принесение себя в жертву чувству, в жертву счастью и жизни другого человека, как на то высшее блаженство, которое только и может вдохновить наши надежды. Эта принадлежность единственному предмету нашей любви настолько освобождает от всего земного, что чувствительный человек, который хочет избавиться от всех притязаний самолюбия, от всех подозрений во лжи, наконец, от всего того, что ранит нас в общении с людьми, — чувствительный человек находит в этой страсти нечто особое, глубинное, что вдохновляет полет мысли и побуждает к самозабвению. От мира спасают переживания более яркие, чем те, которые он может предоставить; мы наслаждаемся нашими спокойными раздумьями, движениями сердца, и жизнь души в глубочайшем одиночестве протекает более бурно, чем вокруг трона Цезарей. Наконец, через сколько бы лет мы ни пронесли какое-нибудь чувство, которое владело нами с юности, нет такого момента, когда жизнь, прожитая для другого, не была бы более сладостной, чем жизнь, прожитая для одного себя, когда бы только мысль об этом не избавляла сразу от всех угрызений совести и неуверенности. Когда имеешь целью лишь собственную выгоду, то как можно решиться на что-то неопределенное? Желание исчезает при его, так сказать, ближайшем рассмотрении, события зачастую приводят к результату, настолько противоположному нашим ожиданиям, что мы раскаиваемся во всех наших усилиях, и наше увлечение наскучивает нам, как и все другие дела. Но когда жизнь посвящена единственному предмету нашей любви, все положительно, все определенно, все увлекательно: он этого хочет, это ему нужно, от этого он станет счастливее, ценой таких-то усилий станет краше один миг его дня. Этого довольно, чтобы вся жизнь получила направление; больше ничего неопределенного, ничего разочаровывающего, душу целиком наполняет лишь радость, которая растет с душевным подъемом и, оказывая соразмерное влияние на наши способности, обусловливает их применение и пользу. Чей дух — на высшей ступени развития — не находит в подлинном чувстве источника большего числа мыслей, чем в какой бы то ни было книге, каком бы то ни было произведении, которые он мог бы создать или усвоить? Величайшая победа гения — описать страсть; что же представляет собой она сама? Личные успехи, слава — предел блаженства для личности — что это по сравнению с любовью? Спросите себя, кем бы вы предпочли быть — Аменаидой или Вольтером? Ах, все эти писатели, великие люди, победители силятся испытать хоть одно чувство из тех, что любовь, словно потоком, обрушивает на человека. Годы трудов и усилий — вот цена одного дня, одного часа того упоения, в котором исчезает жизнь, а любовь на всем своем протяжении дает испытать ряд переживаний столь же сильных и более ярких, чем увенчание Вольтера[10] или триумф Александра. Безграничные радости лежат лишь за пределами нашей личности. Если вы хотите прочувствовать цену славы, надо видеть, как ею увенчан тот, кого мы любим; если вы хотите понять, что значит счастье, надо отдать любимому свое [счастье], наконец, нужно, чтобы он нуждался в вашем существовании и чтобы вы чувствовали себя опорой его счастья, если хотите благословлять неведомый дар жизни. Куда бы ни увлекала нас глубокая страсть, я никогда не поверю, что она уводит с истинного пути добродетели; в возвышенной и преданной любви все приносится в жертву, все ведет к самозабвению, а себялюбие лишь унижает. В человеке, который умеет любить, — все доброта, все сострадание, а лишь бесчеловечность губит всякие нравственные качества души. Но если есть в мире два существа, которых роднит совершенное чувство и которые сочетались друг с другом браком, пусть каждый день они на коленях благословляют Всевышнего, а вселенная с ее величием простирается у их ног; и пусть их удивляет, даже тревожит то счастье, для которого понадобилось столько различных случайностей, счастье, ставящее их так высоко над остальным человечеством; да, пусть они страшатся такой судьбы. Быть может, чтобы участь их не слишком отличалась от нашей, они уже получили все то счастье, которое мы ждем в будущей жизни; быть может, для них нет бессмертия. [...] Как! На самом деле, человеческие отношения могут сложиться столь счастливо, а весь мир лишен этого счастья, и почти [никогда] невозможно, чтобы все обстоятельства ему благоприятствовали! Такой союз возможен, но не для вас! Есть сердца, родственные друг другу, а случайности, расстояния, естественные условия, общество безвозвратно разлучают тех, которые любили бы друг друга всю жизнь; и та же сила обстоятельств связывает вашу жизнь с тем, кто вас недостоин, или не понимает, или перестает понимать! Несмотря на картину, которую я нарисовала, очевидно, что любовь является наиболее роковой из всех страстей для счастья человека. Если бы мы могли умереть, то можно было бы отважиться принять столь счастливый жребий; однако те чувства, которым отдается душа, обесцвечивают все остальные стороны бытия; в течение нескольких мгновений мы испытываем счастье, не имеющее никакого отношения к обычному строю жизни, и хотим пережить утрату этого счастья. Инстинкт самосохранения заставляет нас преодолеть порыв отчаяния, и мы живем без единого шанса вновь обрести в будущем прошедшее или хотя бы какой-нибудь смысл, чтобы перестать страдать, испытывая страсть, тем более любовь, которая основывается целиком на действительности и от которой даже нельзя найти утешение в размышлениях. Только люди, способные покончить с собой*, могут с некоторой долей здравого смысла попытаться пойти по этому великому пути счастья. Но тот, кто хочет жить и предполагает отступить, кто хочет жить и отказывается как-то владеть собой, тот, как безумец, обрекает себя на самое ужасное из несчастий. Большинство мужчин и даже большое число женщин не имеют понятия о чувстве, каким я его только что описала, и есть больше людей, знающих законы Ньютона, чем истинную любовную страсть. Что-то смешное связано с представлением о так называемых романических чувствах, и те жалкие умы, которые придают столько значения всем нюансам своего самолюбия или своим интересам, утвердились в качестве высшего суда для тех, кто приносит свой эгоизм в жертву другому человеку, тот эгоизм, который общество весьма чтит в человеке, занимающемся исключительно самим собой. Выдающиеся люди считают, что лишь плоды ума, услуги, оказанные человеческому роду, достойны уважения. Есть несколько гениев, имеющих право считать, что они приносят пользу своим ближним; но сколь мало людей могут похвалиться чем-либо более славным, чем то, что они одни обеспечили счастье другого человека! Суровые моралисты опасаются заблуждений, которыми чревата эта страсть. Увы! И в наши дни счастлив тот народ, счастливы те люди, которые зависят от натур, способных к чувствительности! Но, в самом деле, столько мимолетных движений [души] похожи на любовь, столько привязанностей совсем другого рода принимаются за это чувство — женщинами из тщеславия или мужчинами по молодости, что это пошлое сходство почти стерло из памяти саму истину. Есть, наконец, натуры, любившие и глубоко убежденные в существовании препятствий к счастливой любви, к тому, чтобы она была совершенной и, в особенности, длительной, испуганные своими душевными горестями, непоследовательностью любимого, — они отвергают смелым усилием ума и с чувствительной робостью все, что может привести к этой страсти. Именно по всем этим причинам рождаются и ошибочные мнения по поводу истинного значения сердечных привязанностей, которые разделяют даже философы, и безграничные страдания, которые испытывают те, кто отдается этим привязанностям [...] Если [...] в вашей жизни был счастливый момент, когда вас любили, если ваш избранник [или ваша избранница] были чувствительны, великодушны, сходны с вашим представлением о них и если время, непостоянство воображения, рождающие в душе новую, даже менее достойную нежности, привязанность, отняли у вас эту любовь, а от нее зависела вся ваша жизнь, то какое всепоглощающее страдание вы испытываете, когда жизнь разбита. В первое мгновение, когда теми же буквами, которыми столько раз были начертаны священные клятвы любви, высекается навеки, что вы больше не любимы, тогда, сравнивая надписи, сделанные одной и той же рукой, вы едва верите своим глазам, видя, что лишь временем объясняется разница между ними. Когда тот же голос, звук которого преследовал вас в одиночестве, отдавался в вашей взволнованной душе и, казалось, воскрешал самые сладостные воспоминания, когда тот же голос обращается к вам без волнения, без дрожи, не выказывая сердечного порыва, — ах! тогда на протяжении еще долгого времени страсть, которую вы чувствуете, не дает вам поверить, что вы перестали интересовать предмет вашей любви. Кажется, что вы испытываете чувство, которое должно сообщаться другому; кажется, что вас разделяет преграда, вовсе не зависящая от его воли; что если говорить с ним, видеть его, то он вновь вспомнит прошлое, обретет прежние чувства; что сердца, которые все отдали друг другу, не могут перестать биться в лад. Но ничто не может возродить влечение, тайной которого обладает другой, и вы знаете, что он счастлив вдали от вас, счастлив зачастую с человеком, меньше всего вас напоминающим: склонность осталась в вас одном, взаимность исчезла без следа. Надо навсегда перестать видеть того, чье присутствие вновь воскресило бы ваши воспоминания, а слова сделали бы их еще горше. Надо бродить в тех местах, где вас любили, в тех местах, чья неизменность свидетельствует о том, что все остальное переменилось. Отчаяние живет в глубине души, в то время как тысяча обязанностей, гордость сама требуют его скрывать. Вы не вызываете жалости никаким внешним проявлением горя, в одиночестве, тайно ваша душа перешла от жизни к смерти. Какое может быть в мире средство от такого страдания? Мужество убить себя. Однако в такой ситуации сама надежда на этот ужасный поступок лишена той некоторой сладости, которую ей можно придать; надежда вызвать к себе внимание после смерти, столь необходимая чувствительным душам, навсегда отнята у человека, который больше не надеется, что о нем будут сожалеть. Вот это и в самом деле значит умереть: ни опечалить человека, который изменил вам, ни покарать, ни остаться в его памяти. Представить же себе, что вы уступаете его той, кого он предпочитает, — эта мучительная картина простирается и за порог смерти, словно мысль об этом будет преследовать вас и в могиле. [...] Среди различных превратностей любви те, что связаны с внешними обстоятельствами, могущими помешать союзу сердец, отодвигаются на второй план; когда люди разделены лишь преградами, не имеющими отношения к их взаимному чувству, они страдают, но могут и мечтать, и сетовать; страдание вовсе не связано с самыми сокровенными мыслями, оно может найти выход. Тем не менее души, возвышенные в своей добродетели, находили в самих себе источник неразрешимых конфликтов. Клементина[11] может встретиться в действительности и умереть, а не победить. Так в различной степени любовь потрясает чувствительные сердца, которые ее испытывают. Остается последнее несчастье, к которому не решаешься мысленно приблизиться, — это внезапная утрата любимого человека, ужасная разлука, угрожающая ежедневно всем, кто живет, всем, кто дышит под властью смерти. Ах, это безграничное страдание наименее страшно из всех: как пережить того, кто любил вас [...], кто заставлял и вас испытывать ту любовь, для которой вы были созданы? Как можно представить себе возможность существовать в этом мире, где его больше не будет, влачить дни, не ожидая его возвращения, жить мучительными воспоминаниями о том, что ушло в вечность, думать, что слышишь, как голос, обращавшийся к вам в последний раз, тщетно призывает к себе вас и упрекает в том, что сердце ваше бьется, но не под милой рукой? [...] в её связи с общественными установлениями
В истории насчитывается более десяти веков, в течение которых, по довольно распространенному мнению, человеческая мысль не развивалась. То, что мы знаем о столь длительном периоде времени, о таком значительном количестве лет, в течение которых великое дело усовершенствования человеческого рода, казалось бы, остановилось, было бы мощным доводом против теории прогресса просвещения; однако этот довод, который стал бы решающим, будучи обоснован, можно легко опровергнуть. Я не думаю, что развитие человеческого рода шло вспять в это время, я полагаю, напротив, что гигантские шаги были сделаны на протяжении этих 10 столетий и в распространении просвещения, и в развитии нашего интеллекта [...] Нашествие варваров было, несомненно, большим бедствием для народов, живших в эпоху такого катаклизма, но именно благодаря этому событию распространилось просвещение. Изнеженные жители юга, смешавшись с северянами, получили от них некую силу и наделили их своего рода мягкостью, которая должна была дополнить духовные способности тех [...] Некоторые писатели выдвинули мнение, что христианская религия была причиной упадка литературы и философии; я убеждена, что христианство в период его утверждения было совершенно необходимо для развития цивилизации и для смешения северного духа с нравами юга.. Я считаю также, что христианские рассуждения, к какой бы области знаний их ни прилагали, способствовали развитию способностей ума к наукам, метафизике и нравственной философии [...] Христианская религия овладела народами Севера, воспользовавшись их расположением к меланхолии, склонностью к темным образам, беспрерывным и глубоким культом памяти и загробной жизни. Ни в основе, ни в установлениях язычества не было ничего, что могло бы дать ему власть над такими людьми. Заповеди христианской религии, пылкость ее первых адептов благоприятствовали страстной грусти жителей туманного края и давали ей направление, некоторые их добродетели — правдивость, целомудрие, верность слову — были освящены божественными заповедями. Религии удалось придать иной смысл их храбрости, не изменив ее природы. В обычаях этих людей было переносить все ради того, чтобы отличиться на войне. Религия призывала их не бояться страданий и смерти ради защиты веры и исполнения своего долга [...] Народы Юга, склонные к восторженности, с легкостью предались созерцательной жизни, которая соответствовала их климату и вкусам; они первыми с воодушевлением приняли институт монашества. Умерщвление плоти, самоистязания были немедленно восприняты народом, который от пресыщенного сластолюбия бросился к крайностям соблюдения религиозных правил. В этих пылких умах, таких легковерных и фанатических, развились все те суеверия и заблуждения, которые нанесли ущерб разуму. Религия была им менее полезна, чем народам Севера, так как южане были гораздо более испорчены, а легче просветить невежественный народ, чем вывести из упадка народ развращенный. Но все же христианство воскресило в некоторых людях, живших без цели и без устоев, нравственные принципы; оно не смогло приблизить им Небо, но сообщило их характерам силу [...] Христианство связало народы Севера и Юга, оно как бы сплавило в общем мировоззрении противоположные нравы и, сблизив врагов, образовало из них нации, в которых сильные люди наделяли образованных сильным характером, а образованные развивали ум сильных людей [...] [...] так называемые века варварства послужили, как и другие, во-первых, просвещению еще большей части людей, во-вторых, усовершенствованию человеческого духа [...] Какую только силу не продемонстрировал вдруг человеческий дух в середине XV столетия! Сколько важных открытий! Какая новая поступь появилась через немного лет! [...] Остановимся, однако, на том времени, которое начинает новую эру, с которого можно беспрерывно насчитывать самые удивительные достижения человеческого гения; и, сравнивая наши богатства с богатствами древних, не будем падать духом в бесплодном восхищении прошлым, напротив, ободримся надеждой — и в творческом воодушевлении объединим наши усилия, развернем паруса — быстрый ветер увлекает нас в будущее. На мой взгляд, существуют две литературы, совершенно различные, литература, появившаяся на Юге, и литература, возникшая на Севере; та, которая началась с Гомера, и та, которая родилась из песен Оссиана. Греческая, римская, итальянская, испанская и французская литература эпохи Людовика XIV образуют литературу, которую я назову южной. Английские и немецкие произведения, несколько датских и шведских сочинений должны быть отнесены к литературе Севера, начало которой положили шотландские барды, исландские саги и скандинавская поэзия. Прежде чем дать характеристику английских и немецких писателей, необходимо, мне кажется, дать общий анализ основных различий двух литературных полушарий. Англичане и немцы, безусловно, часто подражали античным авторам. Они вынесли полезные уроки из этого плодотворного ученичества; но самобытные достоинства их литературы, в которой запечатлена мифология Севера, имеют нечто общее, заключаясь в некоей поэтической возвышенности, первым образцом которой был Оссиан. Но английские поэты, могут сказать, замечательны своим философским складом ума, он проявляется во всех их произведениях, у Оссиана же почти нет размышлений; он повествует о ряде событий и переживаний. Отвечаю на это возражение, что у Оссиана наиболее часты те картины и мысли, которые напоминают о быстротечности жизни, о почитании мертвых, о прославлении их памяти, о том, что те, кто живы, должны преклоняться перед теми, кого больше нет. Если поэт не связал эти чувства ни с нравоучительными изречениями, ни с философскими рассуждениями, то потому, что в ту пору человеческий ум не был еще способен к отвлеченным понятиям, необходимым для того, чтобы делать выводы. Но песни Оссиана, потрясая воображение, настраивают ум на самые глубокие мысли. Меланхолическая поэзия ближе всякой другой к философии. Грусть пронизывает человека и его жизнь гораздо быстрее любого другого чувства. Английские поэты, сменившие шотландских бардов, дополнили их картины мыслями и идеями, которые сами эти картины должны были вызвать; но они сохранили воображение северян, которому нравятся берег моря, шум ветра, дикий вереск; то воображение, которое уносит в грядущее, в мир иной душу, утомленную жизнью. Воображение северян увлекает их за пределы земли, на которой они обитают; оно устремляется за облака, окаймляющие горизонт и словно образующие туманный переход от жизни к вечности. Невозможно сделать объективный выбор между двумя этими видами поэзии, первыми образцами которой можно считать Гомера и Оссиана. Все мои чувства, все мои мысли заставляют меня предпочесть литературу Севера; теперь же предстоит рассмотреть ее отличительные черты. Климат, конечно, является одной из основных причин тех различий, которые существуют между образами, близкими Северу, и образами, которые нравятся на Юге. В мечтах поэтов могут родиться самые необычайные картины, но привычные впечатления обязательно находят отражение во всем, что мы пишем. Стараться не помнить об этих впечатлениях значило бы утратить самое большое преимущество, которое состоит в описании того, что мы сами испытали. Поэты Юга беспрестанно связывают все свои переживания с образами прохлады, густых лесов, прозрачных ручейков. Даже радости любви они изображают не иначе, как используя образ благодатной тени, которая должна скрыть их от палящего зноя. Столь яркая природа, окружающая их, побуждает скорее к деятельности, чем к размышлениям. Мне кажется ошибочным утверждение, что страсти были сильнее на Юге, чем на Севере. На Юге видна большая широта интересов, но там меньше сосредоточенности на какой-нибудь одной мысли, а ведь именно постоянство рождает необычайные страсть и волю. Жителей Севера меньше занимают удовольствия, чем страдание, и их воображение от этого лишь богаче. Зрелище природы сильно впечатляет их, это впечатление подобно самой природе тех краев, всегда сумрачных и туманных. Конечно, в различных жизненных обстоятельствах эта склонность к меланхолии может быть разной, но именно в ней проявляется национальный дух [...] Поэзия Севера редко аллегорична, она никогда не воздействует на воображение посредством местных суеверий. Рассудочный энтузиазм, чистый восторг могут одинаково прийтись по нраву всем народам, это подлинный дух поэзии, который чувствуют все сердца, но дар выражения которого принадлежит гению. Этот дух рождает возвышенные грезы, которые влекут к природе и уединению, он часто настраивает на мысли о религии и [очевидно] побуждает своих избранников к доблестному самоотречению и вдохновляет их на высокие мысли. Всем своим значительным достижениям человек обязан мучительному чувству несовершенства бытия. Посредственные умы, в общем, вполне удовлетворены обычной жизнью; они, так сказать, ограничивают свое существование, а возможную пустоту заполняют тщеславными иллюзиями. Но возвышенность ума, чувств и действий рождается из необходимости вырваться за пределы, ограждающие воображение. Героические поступки, восторженное красноречие, жажда славы доставляют необычайное наслаждение, потребное лишь пылким и в то же время меланхоличным душам, которым наскучило все рассчитанное, все преходящее — словом, все имеющее какой-то конец, где бы он ни был. Именно это расположение духа, источник всех возвышенных страстей и всех философских мыслей, с особой силой воспламеняет поэзию Севера [...] Оссиана упрекают в однообразии. Этот недостаток в меньшей степени присущ его различным последователям — поэтам английским и немецким. Культура, промышленность, торговля всячески изменили сельский пейзаж, и все же поскольку воображение северян всегда оставалось почти неизменным, можно и теперь даже у Юнга, Томпсона, Клопштока[1] и других найти некоторое однообразие. Меланхолическая поэзия не может все время видоизменяться. Мы всегда испытываем одинаковый трепет при виде различных красот природы; то волнение, которое вызывают в нас стихи, изображающие этот трепет, очень похоже на действие, оказываемое губной гармоникой. Душа, слегка колеблемая, наслаждается продолжительностью этого состояния, пока его возможно вынести. И не недостаток поэзии, а несовершенство наших органов чувств приводит к тому, что мы устаем спустя некоторое время; мы испытываем тогда не скуку от однообразия, а то утомление, которое вызвало бы слишком длительное наслаждение небесной музыкой [...] Англичане относятся к Шекспиру с таким восторгом, которого не испытывал ни один народ ни к одному писателю. Свободный народ ревниво относится ко всякой славе, которая способствует известности его родины; и это чувство должно внушать восхищение, исключающее всякую критику [...] Шекспир совсем не подражал древним; он почти никогда не черпал сюжеты из греческих трагедий, как Расин. Он написал одну пьесу на греческий сюжет «Троил и Крессида»[2] и вовсе не придерживался в ней нравов гомеровской эпохи. Он гораздо более замечателен в своих трагедиях на римские сюжеты. Но исторические «Жизнеописания» Плутарха[3], которые Шекспир читал, видимо, с величайшим вниманием, — не совсем литературное произведение; в них можно видеть как бы живого человека. Когда проникаются исключительно образцами драматургического искусства античности, когда подражают подражателям, тогда уменьшается оригинальность произведения, тогда не видно гения, пишущего с натуры, того непосредственного гения, если мне позволительно так выразиться, который отличает, в частности, Шекспира. С древних греков вплоть до него все литературы, как мы видим, повторяли друг друга, имея общий исток. Шекспир начинает новую литературу: его творчество, безусловно, отмечено общим духом поэзии Севера, окрашено в ее тона, yо именно он дал толчок английской литературе и наделил отличительными чертами английское драматургическое искусство [...] Шекспир (ему позже стали равны некоторые английские и немецкие писатели) был первым, кто изобразил нравственное страдание, достигшее высшей степени, та горечь муки, о которой он даст представление, могла бы сойти за измышление, если бы мы не видели, что она изображена с натуры. Древние верили в рок, разящий и испепеляющий, словно молния. Писатели нового времени и особенно Шекспир находят самые глубинные истоки страдания в его философской необходимости. Эта необходимость связана с памятью о стольких непоправимых бедах, стольких тщетных усилиях, стольких обманутых надеждах! Древние жили в еще юном мире, у них была еще очень недолгая история, они были слишком устремлены в будущее, чтобы то страдание, которое они изображали, стало когда-либо таким всепоглощающим, как в английских драмах [...] Еще одно чувство, которое только Шекспир смог показать на сцене, — это сострадание без всякой примеси восхищения тем, кто страдает, сострадание человеку незначительному и иногда даже ничтожному. Нужен бесконечный талант, чтобы это живое чувство передать на сцене, сохранив всю его силу; но тогда достигнутое впечатление более правдиво, чем любое другое: не великий человек, а просто человек интересует нас, и мы взволнованы тогда не теми переживаниями, которые порой условно трагические, но переживаниями, настолько близкими нашим личным, что иллюзия становится велика [...] Многие зрители в Англии требуют, чтобы сцены комические чередовались со сценами трагическими. Однако контраст высокого и низкого все еще производит, как я уже сказала, неприятное впечатление на тех, кто имеет вкус. Высокий стиль подразумевает некоторые оттенки, но слишком резко сочетать его с низким стилем — просто нелепо. Каламбуры, непристойные двусмысленности, прибаутки, поговорки постепенно накапливаются у древних народов, составляя, так сказать, его образный языковой фонд, переходящий по наследству от поколения к поколению. Ко всем этим средствам, которые приветствует масса, разум относится критически. Но они не имеют ничего общего с тем высоким эффектом, какого умеет достичь Шекспир, искусно вводя просторечия, обыденность, — напрасно мы не осмеливаемся допустить их на нашу сцену [...] Шекспир впервые изобразил две самые критические ситуации, в которых может оказаться человек, — это безумие от горя и одиночество в несчастье. Аякс неистовствует, Ореста[4] преследует гнев богов, Федру сжигает любовное пламя; но Гамлет, Офелия, король Лир при разности их судеб и характеров теряют рассудок одинаковым образом. Лишь мука живет в них, под гнетом этого чувства полностью утрачено обычное восприятие жизни, все душевные струны порваны, кроме тех, что настроены на страдание, и это трогательное умопомрачение несчастного существа словно освобождает нас от стыдливой сдержанности, которая мешает без стеснения предаться чувству сострадания. Зрители, быть может, отказали бы в сочувствии осознанной жалобе, но их охватывает волнение при виде страдания, которое безотчетно. Изобразив безумие, Шекспир создал величественную картину крушения человеческого духа, когда жизненная буря превосходит его силы. На французской сцене существуют суровые правила приличия даже для изображения страдания. Оно одно заполняет собой всю сцену; страдающий человек предстает в сопровождении друзей и под взглядами врагов. Но что Шекспир изобразил верно и удивительно сильно — это одиночество. Наряду с мучительным страданием он показывает отчужденность людей и бесстрастие природы или какого-нибудь старого слугу[5] — единственное живое существо, которое еще помнит, что его господин был когда-то королем. Вот здесь и проявляется знание того, что наиболее мучительно для человека, что делает его страдание невыносимым [...] [...] Самая замечательная книга, которая принадлежит немецкой литературе и которую можно противопоставить выдающимся произведениям на других языках, — это «Вертер». «Вертера» называют романом, и немногие знают, что это небольшая повесть. Но мне неизвестны другие произведения, которые бы представляли собой более потрясающую и более правдивую картину безрассудств энтузиазма, большее проникновение в истоки несчастья, этой преисподней, куда попадает дух и где все истины открываются тем, кто умеет их искать. Характер Вертера не может быть широко распространен. На примере этого характера — он чаще встречается в Германии, чем где-либо еще — видно, какой вред может нанести сильному уму порочный общественный строй. Автора «Вертера» пытались осудить за то, что он предположил в душе героя своего романа иную муку, чем мука любви, показал жившие в его душе острое чувство унижения и глубокое неприятие иерархического высокомерия, которое является причиной этого унижения; по-моему, это одна из самых ярких черт гениального произведения. Гёте хотел изобразить человека, которому причиняют боль все порывы его нежной и гордой души, он хотел изобразить то множество бед, которое одно только и может довести нас до крайней степени отчаяния. От любовных мук еще можно найти какое-то средство, но окружающие должны растравить раны человека, чтобы разум его окончательно помутился и смерть стала потребностью. Какой возвышенный союз мыслей и чувств, горячности и рассудительности находим мы в «Вертере»! Лишь Руссо и Гёте сумели изобразить рефлектирующую страсть, страсть, которая сама себя судит, осознает, но не может себя умерить. Такой анализ своих переживаний, сделанный самим человеком, которого они мучают, охладил бы интерес, если кто-либо иной, кроме гения, прельстился бы им. Но ничто так особенно не волнует, как это сочетание рассудочности и отчаяния, проницательности и умопомрачения. Так предстает перед нами несчастный, созерцающий умом свое горе и погибающий под его тяжестью, способный сам о себе судить. И достаточно сильный, чтобы наблюдать за своими страданиями, и все же не умеющий принести своей душе хоть какое-то облегчение [...] Примером самоубийства никогда нельзя заразиться. И не какое-то вымышленное событие романа, а чувства, которые получают в нем развитие, оставляют глубокий след; тот недуг, что охватывает возвышенную душу и в конце концов рождает отвращение к жизни [...] блестяще описан в «Вертере». Все чувствительные и благородные люди в какой-то момент чувствовали себя пораженными этим недугом, и, наверное, часто совершенные создания, преследуемые неблагодарностью и клеветой, должно быть, задавались вопросом, может ли с этой жизнью, какова она есть, примириться честный человек, не ложится ли все устройство общества грузом на чистые и нежные души, делая их жизнь невыносимой [...] [...] Театр — это облагороженная жизнь, но это жизнь, и если самая обыденная ситуация контрастно выделяется на фоне величественных событий, нужно использовать весь талант, чтобы представить ее на сцене, раздвинув рамки искусства, не оскорбляя вкуса. Мы никогда не достигнем совершенной красоты, которой обладали трагедии наших первоклассных авторов. Так значит надо попытаться с благоразумием и рассудительностью чаще использовать те драматургические средства, которые напоминают людям об их собственном опыте, ибо ничто не волнует их так глубоко [...] Все еще стремясь использовать античную мифологию, мы действительно впадаем в детство на старости лет; в пламенном воображении поэта могут родиться любые фантазии, но мы должны поверить в истинность того, что он чувствует. Античная мифология ни создана писателями нового времени, ни прочувствована ими. Пусть они ищут в своей жизни то, что древние находили в своих повседневных впечатлениях. Поэтические картины, заимствованные у язычников, — это лишь подражание подражанию, изображение такой действительности, которая пропущена сквозь восприятие других [...] Поскольку все, что окружало древних, беспрестанно напоминало им о языческих богах, их восприятие жизни было проникнуто образом этих богов, мыслью о них; когда же наши современники подражают в этом древним, очевидно, что они черпают средства украшения в книгах, в то время как одного лишь чувства было бы достаточно, чтобы все ожило [...] Истинная цель поэзии — при помощи новых и в то же время правдивых образов пробудить в людях интерес к тем мыслям и чувствам, которые им самим присущи, но не осознаны, поэзия, как и все, что относится к области мысли, должна идти в ногу с философией века [...] Немногочисленные мифологические образы поэзии Севера больше подходят французской поэзии, ибо лучше соотносятся, как я пыталась доказать, с философскими идеями. В наше время воображение не может опираться ни на какие иллюзии: оно должно питаться подлинными переживаниями поэта, необходимо лишь, чтобы объект его воодушевления был одобрен и осознан рассудком [...] Знаменитый немецкий метафизик Кант[6], исследуя причину наслаждения, которое доставляют красноречие, изящные искусства, все выдающиеся творения мысли, утверждает, что это наслаждение связано с потребностью человека раздвинуть рамки бытия: эти рамки, мучительно сжимающие наше сердце, на несколько мгновений исчезают от смутного волнения, возвышенного переживания; душа переполняется тем неизъяснимым чувством, которое рождают в ней все высокое и прекрасное; и земные пределы исчезают, когда нашему взору предстает величественный путь гения и добра. Действительно, человек выдающийся или чувствительный с усилием подчиняется жизненной упорядоченности, а меланхолическое воображение, питая мечты о бесконечном, делает нас на миг счастливыми. Неудовлетворенность жизнью, когда она не ведет к унынию, а рождает с чудесной непоследовательностью стремление к славе, тогда эта неудовлетворенность жизнью может вдохновить на прекрасные чувства; все созерцается с некоей высоты; все изображается яркими красками. У древних поэт был тем лучше, чем восторженнее было его воображение. В наши дни поэт должен утратить и свои надежды, и веру в разум, только тогда его философский ум сможет произвести большое впечатление. Необходимо, чтобы и среди безоблачных картин благополучия призыв к глубоким раздумьям сердца заставил бы нас почувствовать в поэте мыслителя. В эпоху, в которую мы живем, меланхолия является подлинным источником вдохновения для таланта: кого не коснулось это чувство, не может рассчитывать на большую славу как писатель; только этой ценой она покупается. То, что есть поистине божественного в душе человека, не поддается определению; если существуют какие-то слова для обозначения отдельных черт, то совсем нет слов, чтобы выразить целое, а в особенности, тайну всякой подлинной красоты. Трудно сказать; что не является поэзией; но если мы хотим понять, что она такое, нужно прибегнуть к посредству тех впечатлений, которые производят на нас прекрасная местность, мелодичная музыка, взгляд дорогого существа и сверх всего прочего — всякое религиозное чувство, заставляющее нас почувствовать в себе присутствие Божества. Язык поэзии привычен всем религиям. Библия преисполнена поэзии, Гомер преисполнен религиозности. Дело не в том, что в Библии есть художественный вымысел, а у Гомера — догмы, а в том, что энтузиазм сочетает в едином порыве различные чувства; энтузиазм — это кадильный дым, идущий от земли к небу; он соединяет их друг с другом. Дар словесного выражения того, что мы чувствуем в глубине души, очень редок; однако во всех людях, способных к глубоким и острым переживаниям, есть поэзия; словесного выражения не хватает тем, кто не пробовал его найти. Поэт всего лишь, так сказать, высвобождает чувство, томящееся в глубине души; поэтический гений — это внутреннее расположение души, которое сродни тому, что рождает способность к благородному самопожертвованию: мечтать о героизме — это то же, что сочинить прекрасную оду. Если бы талант не был прихотлив, он столь же часто побуждал бы на прекрасные поступки, что и на проникновенные слова; ибо и те и другие одинаково рождаются из чувства прекрасного, которое живет в нас [...] В лирической поэзии автор говорит от своего лица; он больше не перевоплощается в какого-нибудь персонажа, а в самом себе находит различные волнующие его переживания: Ж.-Б. Руссо в религиозных одах, Расин в «Гофолии»[1] проявили себя как лирические поэты; они впитали в себя псалмы и прониклись живой верой; вместе с тем трудности [французского] языка и французской версификации почти всегда препятствуют свободе энтузиазма. Можно процитировать восхитительные строфы из некоторых наших од; но есть ли хоть одна ода, в которой Бог ни разу не покинул поэта? Отдельные красивые строки — это не поэзия; вдохновение в искусстве — это неисчерпаемый источник, дающий жизнь всем словам от первого до последнего: любовь, родина, вера, — все должно стать священным в оде, она — апофеоз чувства. Чтобы понять подлинное величие лирической поэзии, нужно вознестись мечтой в небесные сферы, забыть шум земли, слыша божественную музыку, и воспринять всю вселенную как символ духовной жизни. Тайна человеческого бытия не существует для большинства людей; в воображении поэта она постоянно присутствует. Мысль о смерти, рождающая уныние в посредственных умах, придает гению больше смелости, а сочетание красоты природы с ужасом разрушения приводит в какое-то исступление от восторга и трепета, без чего невозможно ни понять, ни описать картину этого мира. Лирическая поэзия ничего не пересказывает, ни в чем не ограничена ни временными, ни пространственными рамками; она парит над веками и странами; она продлевает то высокое мгновение, в течение которого человек поднимается над радостями и горестями жизни. Он ощущает себя одним из чудес мира, существом одновременно творящим и сотворенным, которое должно умереть и не может перестать быть и чья трепещущая и в то же время могучая душа гордится собой и повергается ниц перед Богом. Немцы, у которых сочетается одновременно все, что бывает очень редко: воображение и сосредоточенность, в большей степени, чем многие другие народы, способны к лирической поэзии. Писатели нового времени не могут обойтись без определенной глубины идей, к которой их приучила спиритуалистическая религия; и все же если бы эта глубина не была скрыта за образностью, не было бы поэзии: итак, природа должна возвыситься в глазах человека, чтобы он мог пользоваться ею как олицетворением своих мыслей. Рощи, цветы и ручейки удовлетворяли языческих поэтов; лесная глушь, безграничный океан, звездное небо едва могут передать то вечное и беспредельное, что переполняет христианскую душу [...] Слово «романтический» было недавно введено в Германии для обозначения поэзии, истоком которой были песни трубадуров, которая родилась в эпоху христианства и рыцарства. Если не признать, что язычество и христианство, Север и Юг, античность и средние века, рыцарство и греко-римские установления поделили между собой всю область литературы, то невозможно будет когда-либо судить с философской точки зрения о вкусах в древности и в новое время. Иногда слово «классический» используют как синоним слова «совершенный». Я пользуюсь им здесь в другом его значении, считая классической поэзию древних, а романтической — поэзию, так или иначе связанную с традициями рыцарских времен. Такое деление в равной степени относится и к двум мировым эрам: той, что предшествовала установлению христианства, и той, что за ним последовала. В различных немецких трудах античная поэзия сравнивалась со скульптурой[2], а романтическая — с живописью — словом, развитие человеческого духа, который перешел от материалистических верований к мистическим, от природы к Богу, было охарактеризовано всеми способами. Французская нация, самая просвещенная из романских наций, имеет склонность к поэзии классической, образец подражания которой — поэзия древних греков и римлян. Английская нация, самая прославленная из германских наций, любит поэзию романтическую, рыцарскую и гордится шедеврами в этом роде. Здесь я не стану рассматривать, который из этих родов поэзии заслуживает предпочтения: достаточно показать, что различие вкусов по этому поводу проистекает не только из-за каких-то случайностей, но и в силу изначального строя мыслей и воображения. В эпических поэмах и трагедиях древних есть своего рода упрощенность, вызванная тем, что люди в ту пору были слиты с природой и верили, что зависят от судьбы, как природа связана с необходимостью. Поскольку человек размышлял мало, он всегда овеществлял свою духовную жизнь, даже совесть представлялась как нечто предметное, и муками ее были факелы фурий, обрушивавшиеся на голову виновного. В античной литературе главным было событие, в новое время большее место занимает характер, а беспокойная рефлексия, которая часто терзает нас, как гриф Прометея, показалась бы лишь безумием при той простоте и определенности отношений, которые существовали в гражданском и общественном строе древних. В Греции в пору зарождения искусства создавались лишь отдельные статуи, групповые скульптурные изображения были выполнены позднее. Можно было бы также с полным правом сказать, что групповых изображений не было ни в одном виде искусства: представленные фигуры следовали одна за другой, как на барельефе, без каких-либо сочетаний друг с другом или усложнений. Человек одушевлял природу: в водах обитали нимфы, в лесах — дриады; но и человек, в свою очередь, становился частью природы, как бы напоминая поток, молнию, вулкан, настолько его действия были бессознательны, и никакое размышление ни в чем не могло бы изменить ни их причины, ни последствия. Древние обладали, так сказать, телесной душой, все движения которой были сильны, непосредственны и закономерны, не такова душа, которая сформирована христианством: люди нового времени вынесли из христианского покаяния привычку к беспрестанному самоуглублению. Но, чтобы раскрылась полностью эта внутренняя жизнь, необходимо большое разнообразие фактов, благодаря чему всячески проявляются бесконечные оттенки того, что происходит в душе. Если бы в наши дни искусство имело целью простоту искусства древних, мы бы не достигли той первобытной силы, которая отличала это искусство, и утратили бы многие глубокие чувства, к которым склонна наша душа. Простота искусства в новое время с легкостью обернулась бы сухостью и схематизмом, тогда как в простоте древних была полнота жизни. Честь и любовь, мужество и сострадание — чувства, которые отличают эпоху христианского рыцарства, и эти склонности души не могут проявиться иначе как в опасностях, подвигах, любовных историях, бедствиях — словом, через ту романтическую занимательность, когда беспрестанно сменяются картины. Таким образом, источники художественных приемов поэзии классической и поэзии романтической во многих отношениях различны: в одной властвует рок, в другой — Провидение; рок нисколько не считается с чувствами людей, Провидение судит о делах людей лишь по их чувствам. Как не создать в поэзии мир совершенно иной по своей сущности, когда нужно изобразить деятельность слепой и глухой судьбы, вечно противоборствующей смертным, или тот разумный порядок, во главе которого стоит Высшее существо, вопрошаемое нашей душой и нашей душе отвечающее? Языческая поэзия должна быть простой и выпуклой, как предметы внешнего мира; христианской поэзии необходимы тысячи цветов радуги, чтобы не исчезнуть в облаках. Поэзия древних более совершенна как искусство, поэзия нового времени заставляет пролить больше слез; но для нас существует вопрос выбора не между поэзией классической и поэзией романтической, а между подражательностью первой и самобытным духом второй. Литература древних в наше время является пересаженной литературой; романтическая, или рыцарская, литература для нас — коренная, именно наша религия и наши [общественные] институты дали ей расцвесть. Писатели, подражающие древним, подчинились самым суровым правилам вкуса; поскольку они не могут обратиться за советом ни к собственной душе, ни к собственной памяти, им приходится придерживаться тех правил, по которым шедевры древних могут быть приспособлены к нашим вкусам, в то время как и мировоззрение и государственное устройство, в условиях которых родились эти шедевры, изменились. Но эти поэтические произведения, созданные по образцу античных, редко оказываются народными, какими бы совершенными они ни были, потому что в настоящее время они не содержат в себе ничего национального. Французская поэзия, будучи самой классической из всей современной поэзии, одна не распространена среди народа. Стансы Тассо поют венецианские гондольеры; испанцы и португальцы всех слоев знают наизусть стихи Кальдерона и Камоэнса[3]. Шекспиром так же восхищается в Англии простой народ, как и высшие классы. Поэмы Гёте и Бюргера[4] положены на музыку, и вы слышите, как их повторяют от берегов Рейна до Балтийского моря. Нашими французскими поэтами восхищаются все образованные умы у нас и в остальной Европе; но эти поэты совершенно неизвестны людям из народа и даже средним городским слоям, ибо во Франции искусство не родилось, как в других странах, там, где совершенствуется его красота. Некоторые французские критики высказали утверждение, что литература германских народов еще делает первые шаги; это мнение совершенно неверно. Люди, наиболее сведущие в языках и произведениях древних, конечно, знают недостатки и выгоды того рода литературы, который они принимают или отвергают; но их склонности, обычай и рассуждения привели их к тому, что они предпочли литературу, основанную на рыцарских преданиях, средневековых чудесах, литературе, основанной на греческой мифологии. Романтическая литература — единственная, которая еще может совершенствоваться, она уходит корнями в нашу почву, и поэтому она одна может дальше расти и обновляться: она выражает нашу веру, она напоминает нам о нашей истории; истоки ее в древности, но не в античности. Путь классической поэзии к нам лежит через языческие реминисценции, немецкая поэзия является христианской эрой в искусстве; эта поэзия пользуется нашими личными впечатлениями, чтобы взволновать нас: вдохновляющий ее гений обращается непосредственно к нашей душе и, кажется, воскрешает саму нашу жизнь как призрак, самый могущественный и самый ужасный из всех. [...] У Гёте есть один романс, который производит восхитительное впечатление самыми простыми средствами: это «Рыбак»[5]. Бедный человек садится на берегу реки летним вечером и, забрасывая удочку, глядит на светлую и прозрачную воду, тихо омывающую его босые ноги. Нимфа этой реки приглашает его туда погрузиться; она рисует перед ним прелесть волн в жаркую пору, удовольствие, которое испытывает солнце, освежаясь ночью в море[6], ночную тишь, когда лучи луны дремотно покоятся на груди волн; наконец рыбак, увлеченный, соблазненный, воодушевленный, бросается к нимфе и исчезает навсегда. Основа этого романса не представляет ничего особенного, но восхитительно мастерство, с каким передано ощущение таинственной власти, которой обладают явления природы. Говорят, есть люди, обнаруживающие скрытые под землей источники по возникающему у них нервному возбуждению. В немецкой поэзии можно часто встретить подобные чудеса взаимосвязи человека и стихий. Немецкий поэт воспринимает природу не только как поэт, но как брат, и можно сказать, что родственные узы связывают его с воздухом, водой, цветами, деревьями — словом, со всей изначальной красотой творения. Нет человека, который бы не почувствовал невыразимую привлекательность волн, состоящую или в обаянии прохлады, или в подспудно возникающем чувстве превосходства стройного и бесконечного движения над преходящим и тленным бытием. Романс Гёте замечательно передает вечно возрастающее наслаждение, которое мы находим в созерцании прозрачных речных струй: плавность ритма и мелодии передает плавность волн и производит сходное впечатление на воображение. Душа природы является нам отовсюду и в тысяче различных форм. Плодородная равнина и заброшенные пустыни, море и звезды подчинены одним и тем же законам, а человек заключает в себе некие ощущения, некие тайные возможности, которые связывают его с днем, с ночью, с бурей: именно этот тайный союз нашей души с чудесными явлениями вселенной и сообщает поэзии подлинное ее величие. Поэт умеет восстановить единство мира физического с миром духовным: его воображение связывает один с другим [...] Большинство немецких писателей соотносит все религиозные идеи именно с чувством бесконечного. Спрашивается, возможно ли постичь бесконечность? Но не постигаем ли мы ее хотя бы негативно, когда не можем выразить математическим числом ни время, ни пространство? Эта бесконечность есть отсутствие предела; а то чувство бесконечного, которым проникнуты воображение и душа, является положительным и созидательным. Восторг, который вызывает в нас идеал прекрасного, — это переживание, полное одновременно смятения и ясности, рождается чувством бесконечного. В восхищении мы чувствуем себя словно освобожденными от уз бытия и нам словно открываются чудесные тайны, чтобы раз и навсегда спасти душу от бессилия и увядания. Когда мы созерцаем звездное небо, где крупицы света — это такие же вселенные, как наша, где сияющая пыль Млечного пути образует на небосводе дорогу из миров, наша мысль теряется в бесконечности, наша душа рвется к неизвестности, и мы чувствуем, что лишь за пределами земного бытия должна начаться наша подлинная жизнь [...]. Когда мы полностью отдаемся размышлениям, грезам, желаниям, которые выходят за пределы опыта, лишь тогда мы дышим. Когда хотят довольствоваться интересами, обычаями, законами этого мира, тогда гений, чувствительность, энтузиазм болезненно сотрясают душу; но они наполняют ее блаженством, будучи посвящены мысли о бесконечном, ожиданию бесконечного, что в области метафизики называется врожденным предрасположением, в области морали — самопожертвованием, в искусстве — идеалом, в религии — божественной любовью. Чувство бесконечного — это подлинное свойство души: все прекрасное различного рода возбуждает в нас надежду на вечную жизнь и высшее бытие и стремление к ним; невозможно слышать ни лесной ветер, ни сладостные звуки человеческих голосов, невозможно быть очарованным искусством слова, поэзией; наконец, в особенности, невозможно любить чистой, глубокой любовью, не будучи проникнутым чувством религиозным, чувством бессмертия. Всякое пренебрежение личными интересами проистекает из потребности согласоваться с этим чувством бесконечного, все очарование которого мы ощущаем, но не можем выразить. Если бы сила долга действовала лишь в течение краткого промежутка нашей жизни, то как бы эта сила имела большую власть над нашей душой, чем страсти? Кто бы посвятил ограниченное тому, что ограничивает? «Все, что кончается, так коротко», — говорит блаженный Августин[7]; мгновения радости, которые приносят земные привязанности, и мирные дни, обеспеченные нравственным поведением, отличались бы весьма немного, если бы волнующие чувства, не ограниченные ни временем, ни пространством, не рождались в глубине души того, кто посвящает себя добродетели. Многие будут отрицать это чувство бесконечного; и, конечно, отрицая, они утвердились на отличных позициях, ибо невозможно объяснить им это чувство; несколько лишних слов не помогут им понять то, что скрыла от них вселенная. Природа облекла бесконечное в различные символы, которые приближают его к нам: свет и тьма, буря и тишина, радость и страдание — все внушает человеку ту всеобъемлющую религиозность, которая воздвигает алтарь в его сердце. [...] Новалис, человек знатного происхождения, был с юности приобщен к различным областям знания, которые новейшая школа разработала в Германии; но благочестивая душа поэта придала его стихам большую простоту. Он умер в 26 лет[8], и когда его не стало, тогда те религиозные песни, которые он сочинил, приобрели в Германии трогательную известность. Отец этого юноши — моравский брат[9], спустя некоторое время после смерти сына он отправился посетить общину своих братьев по вере и в их церкви услышал, как пелись песни его сына, песни, которые моравы избрали для собственного назидания, не зная их автора. Среди произведений Новалиса выделяются «Гимны к ночи», с большой силой изображающие сосредоточенность, которую ночь рождает в душе. Дневной свет соответствует радостному языческому мировоззрению; а звездное небо кажется подлинным храмом истинной веры. Именно во тьме ночей, говорит немецкий поэт, человеку открылось бессмертие: солнечный свет слепит глаза, мнящие видеть. Стансы Новалиса о жизни шахтеров полны живой поэзии, которая производит сильное впечатление. Он вопрошает пласты земли, что содержится в их глубинах, ибо они были свидетелями различных переворотов в природе; он выражает решительное желание постоянно проникать еще дальше к центру земного шара. Противоположность между этой огромной любознательностью и такой хрупкой жизнью, которую надо посвятить удовлетворению этой любознательности, вызывает высокое волнение. Человек помещен на земле между небесами и бездной, и жизнь его во времени также находится меж двух вечностей. Его окружают со всех сторон безграничные понятия и предметы, и бесчисленные мысли являются ему, словно тысячи огней, которые, сливаясь, ослепляют его. Новалис много написал о природе вообще, он сам по праву называет себя учеником в Саисе[10], ибо именно в этом городе был сооружен храм Изиды, а то, что дошло до нас из тайн египтян, заставляет поверить, что их жрецы обладали глубоким знанием законов природы. Многие питают предубеждение к энтузиазму; они смешивают его с фанатизмом, а это большая ошибка. Фанатизм — это все исключающая страсть, предмет которой одно какое-нибудь убеждение; энтузиазм тождествен мировой гармонии; это любовь к прекрасному, душевный подъем, радость самопожертвования, соединенные в одном и том же переживании, в котором есть величие и покой. Значение этого слова по-гречески наиболее возвышенно передает его смысл: энтузиазм значит «Бог в нас». Действительно, когда жизнь человека сливается с жизнью мира, в ней есть что-то божественное. Все то, что заставляет нас жертвовать нашим благом или нашей жизнью, почти всегда связано с энтузиазмом; ибо прямая дорога эгоистического разума, [видимо], в том, чтобы сделать самого себя целью всех своих усилий и не ценить в этом мире ничего, кроме здоровья, денег и власти. Несомненно, совести достаточно для того, чтобы самого расчетливого человека вести по стезе добродетели, но энтузиазм то же по сравнению с совестью, что честь по сравнению с долгом: в нас есть некий избыток души, который сладостно посвятить тому, что прекрасно, когда исполнено то, что хорошо [...] Умственный труд кажется многим писателям всего лишь неким механическим занятием, заполняющим их жизнь, как могла бы это сделать любая другая работа, [...] но имеют ли подобные люди представление о высоком счастье мыслить в восторженном воодушевлении? Знают ли они, какой надеждой преисполняешься, когда веришь, что благодаря твоему дару слова явится глубокая истина, истина, образующая могучую связь между тобой и всеми душами, родственными твоей? Писателям, лишенным энтузиазма, литературная деятельность знакома лишь по критике, соперничеству, зависти, по всему тому, что явно угрожает нашему спокойствию в мире человеческих страстей; нападки и несправедливости иногда причиняют боль; но разве подлинное, глубокое наслаждение талантом может быть от этого испорчено? Когда книга выходит, она уже стоит стольких счастливых мгновений тому, кто писал ее согласно своему сердцу и словно священнодействуя! Сколько слез умиления пролил он в одиночестве о чудесах жизни, любви, славы, веры. Наконец, в своих мечтаниях, не наслаждался ли он воздухом, как птица, водой, как страдающий от жажды охотник, цветами, как влюбленный, мнящий, что он все еще вдыхает ароматы, которыми окружена его возлюбленная? В жизни нам кажутся тягостными наши способности, и мы часто страдаем от того, что одиноки по своей природе посреди стольких людей, живущих с такой легкостью; но дар творчества исполняет хотя бы на миг все наши желания; у него есть свои сокровища и венцы, он представляет нашему взору чистые и сияющие картины идеального мира, и сила его доходит иногда до того, что позволяет нам услышать в душе голос любимого существа [...] Могут ли чувствовать природу те, кто лишен энтузиазма? Могли бы они говорить ей о своих эгоистических интересах, презренных желаниях? Что бы ответили море и звезды на ограниченные, обыденные запросы каждого? Но если душа наша взволнована, если она ищет божество во вселенной, если она также хочет славы и любви, то с ней говорят облака, потоки позволяют вопрошать себя, а ветер в зарослях вереска, кажется, удостаивает нас речи о том, что мы любим.
|
©2003